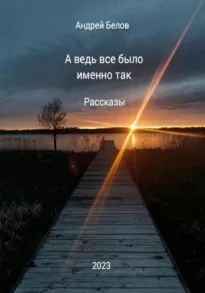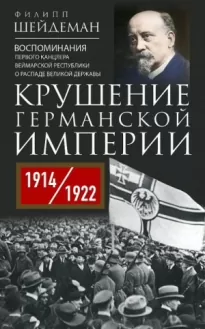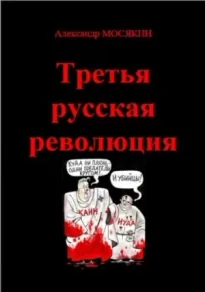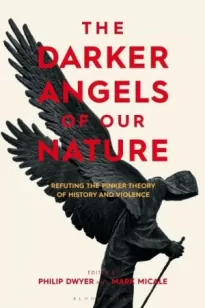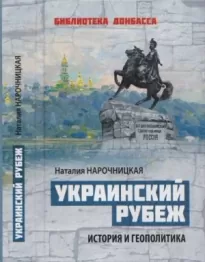Утопия на марше. История Коминтерна в лицах
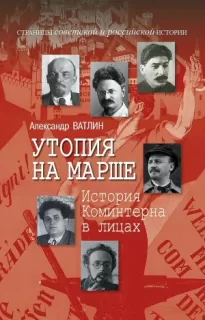
- Автор: Александр Ватлин
- Жанр: Биографии и Мемуары / Политика и дипломатия / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах"
1.9. Ленин и политика единого рабочего фронта
После неудачи «мартовской акции» германских коммунистов, которая завершилась не только большой кровью, но и внутренним расколом в КПГ, компартии в большинстве стран Европы были вынуждены перейти от наступления к обороне. Стало очевидно, что империалистическая война не переросла в мировую гражданскую, население даже побежденных стран в своей массе стремилось вернуться к старому доброму прошлому, не решаясь участвовать в рискованном строительстве «светлого будущего», к которому его призывали левые радикалы. Страх перед «красной угрозой» в большинстве европейских стран отошел на второй план, в сфере международных отношений, как отмечал Ленин на Третьем конгрессе Коминтерна, установилось неустойчивое, но все же равновесие между силами капитализма и социализма[166].
В самой России усилились позиции умеренных коммунистов, практиков государственного строительства, указывавших на то, что проведение его по марксистским прописям неизбежно заканчивается кризисами и катастрофами. В исторической литературе подробно и обстоятельно анализируется деятельность РКП(б) в рамках «военного коммунизма»[167], однако в тени остается ее попытка на рубеже 1920–1921 годов создания коммунизма гражданского, т. е. безрыночной экономической системы при жесткой авторитарной власти, которая напоминала утопии казарменного социализма, предлагавшиеся еще Платоном и Кампанеллой. Поворот к нэпу был неизбежным «шагом назад», горьким признанием несбыточности надежд на одномоментный рывок к коммунизму.
Советская Россия не только вступила в период (достаточно кратковременный) разумных реформ, но и встала на путь урегулирования своих отношений с внешним миром. Большевики уже не казались экзотичной группой почти религиозных фанатиков, отрицавших все ценности и нормы европейской цивилизации. Их поворот вправо в социально-экономической сфере породил надежды на «примирение» не только в правящих кругах европейских держав, но и среди лидеров международного социалистического движения.
Самокритичные нотки зазвучали и в среде российской эмиграции, Н. В. Устрялов так писал об этом в сборнике «Смена вех», увидевшем свет в 1921 году: «Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула Советскую власть с ее идеологией интернационала на роль национального фактора современной русской жизни, в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, на практике потускнел и поблек, вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми „союзниками“»[168].
Ленин и его соратники отдавали себе отчет в том, насколько серьезные последствия повлечет за собой их отход от идеологической стерильности. Вспоминая французскую революцию, в партийном руководстве заговорили о превентивном «термидоре», о вынужденном характере временного отступления. Большевики уже однажды перехитрили страну, на словах согласившись с логикой безбрежного народного бунта, а на деле втиснув общество в жесткие рамки партийной диктатуры.
Вновь, как и весной 1918 года, лидеры РКП(б) признали необходимость «передышки». Вопрос о том, примут ли их зарубежные единомышленники столь резкий поворот от крайнего модернизма к традиционной архаике, ни в коем случае нельзя было считать предрешенным. Ленин еще за год до коминтерновского поворота сделал упреждающий выстрел в воздух, осудив «детскую болезнь левизны» в компартиях, хотя и предложил лишь терапевтические средства ее лечения.
На Третьем конгрессе Коминтерна Ленину и Троцкому пришлось убеждать своих зарубежных единомышленников в том, что поворот к нэпу и «примирению с капиталистическим окружением» служит временной мерой и не является предательством идеалов революционного марксизма. Получилось так, что на самом конгрессе оба партийных лидера стояли «на крайне правом фланге»[169]. Это создавало опасность раскола делегации РКП(б), ибо позиции левых разделяли Бухарин и, более сдержанно, Зиновьев. По воспоминаниям Троцкого, «Ленин взял на себя инициативу создания головки новой фракции для борьбы против сильной тогда ультралевизны, и на наших узких совещаниях Ленин ребром ставил вопрос о том, какими путями повести дальнейшую борьбу, если III конгресс займет бухаринскую позицию»[170].
Президиум Третьего конгресса Коминтерна
Слева направо: швейцарец Ж. Эмбер-Дро, Л. Д. Троцкий, болгарин Васил Коларов, немец Вильгельм Кенен и Г. Е. Зиновьев
Июнь 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 278. Л. 1]
Действительно, конгресс стал ареной острых идейно-политических столкновений между левыми и умеренными. «Война не завершилась непосредственно пролетарской революцией», — говорилось в его резолюции о мировом положении. Холодный душ, которым оказались эти слова для иностранных делегатов, встретил их сопротивление — в ходе дискуссий лидеров РКП(б) неоднократно обвиняли в усталости, излишней осторожности и пессимизме. Последним пришлось поставить на карту все свое влияние, чтобы удержать Коминтерн от дальнейшего сползания влево.
Третий конгресс дал коммунистам новую стратегическую установку — завоевать массовое влияние: «С первого дня своего образования Коммунистический Интернационал поставил своей задачей ясно и недвусмысленно не создание небольших коммунистических сект, которые будут стремиться установить свое влияние на рабочие массы только посредством агитации и пропаганды, но непосредственное участие в борьбе рабочих масс, коммунистическое руководство этой борьбой и создание в процессе борьбы крупных революционных коммунистических массовых партий»[171]. Резолюции конгресса содержали все прежние обвинения в адрес европейских социалистов, однако к 1921 году было уже очевидно, что беспредметная полемика с ними — не лучший способ завоевания масс коммунистами.
Стало очевидным и то, что последние — отнюдь не рыцари без страха и упрека, готовые рисковать своей жизнью ради идеалов светлого будущего. В ходе конгресса на российских лидеров Коминтерна обрушился шквал просьб о финансовой помощи и не меньший поток жалоб, что выделенные средства попросту исчезли. Пришлось налаживать хотя бы минимальный порядок и в этой весьма деликатной сфере, для чего в Коминтерн был откомандирован старый большевик И. А. Пятницкий, который стал одним из секретарей этой организации, отвечавшим за финансовые и нелегальные аспекты ее деятельности, в том числе и контакты с советскими спецслужбами.
Именно Пятницкий, обладавший огромным опытом подпольной работы (он ведал каналами, по которым в Россию отправлялась газета российских социалистов «Искра», печатавшаяся в Германии) и прекрасно владевший немецким языком, возглавил Отдел международных связей (ОМС) — службу, осуществлявшую контакты руководства Коминтерна с единомышленниками во всех уголках земного шара. По мнению историков советской разведки, ОМС «по своим функциям и своей структуре являлся разведслужбой, располагая штатом оперативных работников, агентурой, курьерами, шифровальной службой и службой по изготовлению поддельных документов. Поскольку главной целью ОМС было создание политических и военных структур за кордоном для продвижения идеи мировой „перманентной“ революции, большинство его сотрудников составляли интернационалисты, евреи по национальности, имевшие широкие деловые и родственные связи по всему миру»[172]. Через их руки проходили и секретные документы, и оружие для повстанцев, и огромные суммы денег.
Отчет «товарища Томаса» о получении средств и выплатах иностранным компартиям за 1921 год
16 января 1922
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 1]
О том, в каких масштабах Советская Россия спонсировала зарубежных коммунистов, свидетельствует доклад одной из сотрудниц «товарища Томаса» — под этим псевдонимом скрывался Яков Рейх, работавший в Берлине и подотчетный лично Зиновьеву[173]. «Деньги хранились, как правило, на квартире товарища Томаса. Они лежали в чемоданах, сумках, шкафах, иногда в толстых папках на книжных полках или за книгами. Передача денег производилась на наших квартирках поздно вечером, в нескольких картонных коробках весом по 10–15 кг каждая. Мне нередко приходилось убирать с дороги пакеты денег, мешавшие проходу»[174].
Масштаб финансовых операций Рейха-Томаса сделал бы честь европейскому банку средней руки. За один только 1921 год — год страшного голода в Поволжье, унесшего миллионы человеческих жизней, через него прошло около 122 млн марок, что составляло 3 млн рублей золотом[175]. На протяжении нескольких лет в Берлине и Москве заседали высокие комиссии, однако никаких нарушений в финансовой отчетности обнаружено не было, просто потому что ее не было вообще. «По понятным причинам я с начала своей деятельности не веду бухгалтерских расчетов», — писал Рейх Пятницкому 22 августа 1921 года[176]. Зато выяснилось, что за время пребывания в должности секретного банкира Коминтерна он так и не удосужился вступить в ряды РКП(б). Но и это не считалось преступлением. Работая в стане классового врага, приходилось подражать его образу жизни. Если верить воспоминаниям Рейха, в ходе одной из бесед с Лениным тот посоветовал ему купить солидный дом в Германии, «уверяя, что это создаст мне прочное положение, которое необходимо»[177].
В делах, от которых зависело существование его детища, для вождя не было мелочей. После образования Коминтерна он неоднократно убеждал своих товарищей по партии, что большевики обязаны помогать своим зарубежным единомышленникам так же, как когда-то они сами получали средства из кассы Второго Интернационала. Однако после Третьего конгресса кончилось и его терпение. Он собственноручно написал проект секретного письма ЦК РКП(б), который начинался словами: «Нет сомнения, что денежные пособия от КИ компартиям буржуазных стран, будучи, разумеется, вполне законны и необходимы, ведут иногда к безобразиям и отвратительным злоупотреблениям».
Записка Г. В. Чичерина В. М. Молотову о необходимости уничтожения всех документов о передаче 200 тыс. руб. золотом бастующим английским шахтерам. Резолюция В. И. Ленина
15 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 678. Л. 1]
Вождь грозил мошенникам и растратчикам не только исключением из партии, но и уголовным преследованием, «ибо вред, приносимый неряшливым (не говоря уже о недобросовестном) расходованием денег за границей, во много раз превышает вред, причиняемый изменниками и ворами»[178]. Проект письма завершался предложением подготовить «детальнейшую инструкцию» и создать «особую комиссию» — на четвертом году партийной диктатуры у ее лидеров сложился твердый алгоритм «расшивания узких мест», если пользоваться их собственным выражением. Впрочем, проект так и остался проектом. И в нем не было ни слова о том, что зарубежные компартии должны в финансовом отношении стараться встать на собственные ноги. Как скажет впоследствии Лис из известной сказки: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Фанатичная убежденность Ленина и его соратников в правоте своего дела не позволяла им признавать очевидные поражения и отказываться от всемерной поддержки молодых компартий. Лишь запоздало и с многочисленными оговорками они заговорили об угасании революционной волны в европейских странах. Их главным делом все больше становилось не продвижение вперед мировой революции, а сохранение завоеванной в России власти в условиях нэпа. Для них, как писал Ленин в «Заметках публициста», эта политика выглядела как отступление альпиниста, всего несколько шагов не добравшегося до желанной вершины. «Ему пришлось повернуть назад, спускаться вниз, искать других путей, хотя бы более длинных, но все же обещающих возможность добраться до вершины»[179].