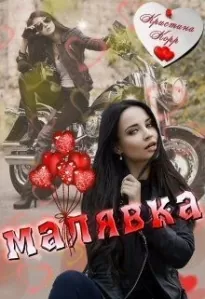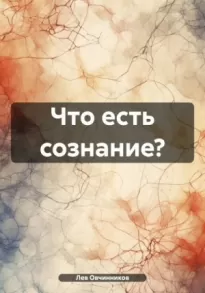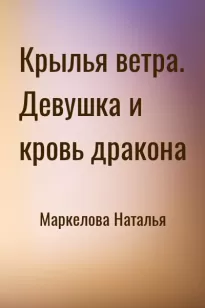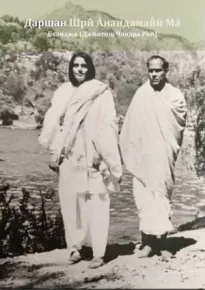Тени незабытых предков
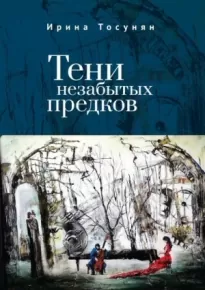
- Автор: Ирина Тосунян
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Тени незабытых предков"
Грант Матевосян. «Не пленяйся бранной славой»
К аждый раз, прилетая в Ереван в командировку или просто погостить у родных, я, испытывая (всегда) сложные чувства, приходила в этот дом. Еще в лифте твердо решала: «Посижу! Два! Часа! И уйду. Скоро улетать, и дел – прорва». Поднимала неуверенно руку к звонку, понимала: никуда я через два часа не уйду, и решительно нажимала на кнопку. А потом в «своем кресле» напротив окна прихлебывала чай с чабрецом, который то и дело подливала в «мою» большую чашку жена Гранта Вержине, смотрела, как ходит по комнате худой, немного сутулый, немного нервный и о-о-очень сложный человек с большими темными глазами и слушала, слушала, и записывала все это на диктофонную пленку…
Сплетать и расплетать монологи-диалоги начну потом и постепенно, но даже много-много лет спустя скажу откровенно: так и не расплела их полностью. Но работаю над этим.
Однажды, шел 1989 год, Грант после посиделок пошел провожать меня и на оживленной даже в поздний час улице Абовяна посадил в такси. Пока я располагалась на сиденье, таксист внимательно разглядывал моего спутника (видимо, что-то необычное увидел в его облике). Когда отъехали, тревожно спросил: «Кто это?» Я ответила: «Лучший армянский писатель Грант Матевосян». «Да, я слышал это имя, – задумчиво сказал шофер. – Вот только читать не читал. Ребята говорят, о деревне пишет… Трудный, говорят, писатель…»
А я тут же вспомнила диалог из книги Юрия Карабчиевского «Тоска по Армении», читанной прямо накануне нынешней поездки в Армению.
«Однажды мне позвонила приятельница из Киева и, минуя вопрос о здоровье детей, с ходу сказала так:
– Я должна тебе сообщить, что в нашей стране, в наше время живет великий писатель, и ты наверняка о нем даже не знаешь.
– Знаю, – ответил я, почти не задумываясь, и назвал ей имя.
Она разочарованно подтвердила. И хотя я тоже узнал недавно, а прочел и вовсе месяца два назад, но добавил с важностью: – Как же, как же не знать! – и повторил окончательно и с удовольствием: – Знаю – Грант Матевосян!»
– Грант, я обратила внимание, что в Ваших произведениях нет никаких прямых упоминаний пережитой армянским народом трагедии. Трагедии, давшей ему психологию народа-беженца, вызвавшей нескончаемый поток пульсирующей миграции. И все же эта тема подспудно звучит в каждой из Ваших книг…
– Этот нескончаемый «железный» поток в жизни нашего народа был, и в годы геноцида происходил достаточно широко, и нынче имеет место быть. Армения, то есть я и ты, и все или почти все знакомые тебе и мне армяне – нас всех принесло этими караванами. Вся армянская диаспора, от Австралии до Америки – спасенные этими караванами. Народ выбирал себе предводителя, зачастую какого-нибудь сельского священника, а то и кого-нибудь из своих же, «Веди», – говорил, и сам ручейком тек следом к спасительным берегам – к тавризскому ханству, к сирийской пустыне, к морю, где обязательно должен был стоять на якоре какой-нибудь военный корабль какой-нибудь законопослушной добропорядочной страны, к русской империи, в магометанство «всем народом». Так было написано в святой книге, и так оно и происходило, и происходит. Среди этого народа каждый и все могли быть ворами, могли явить несправедливость – в дороге, в долгих скитаниях не поровну, скажем, могли поделить хлеб между своим ребенком и ребенком брата, могли тайком и в открытую блудить, тайно родить и тайно схоронить – у них, у предводителей этого права не было, они были призваны олицетворять то светлое и жизнестойкое, которое живо в последнем грешнике и отверженном.
– И Вы говорите сейчас о полководце…
– Да, об Андранике. Сказанное об Андранике – просто-напросто историческая реальность, имевшая место. Все более и более разрастаясь, хотя многих удержал тиф, хотя армянские селения на пути давали некоторым убежище, народ вышел из туманяновского Дсеха и потек через Дилижанское ущелье, через севанские горы к Нахичевани и Тавризу, понадеявшись, что прорвется через Турцию и выйдет к средиземноморскому побережью, где все еще держится большое скопление армян. Трудной слякотной весной 1918 года все тропинки из всех сел и из всех хлевов приводили всех сирот и всех вдов к Андранику, а он и сам уже не знал, где выход из положения, однако же не мог бросить и предать свой народ – на белом скакуне он предстал перед людьми как воплощение надежды и победы, а сам на одного только Бога и надеялся.
Я рассказываю это тебе вовсе не для того, чтобы похваляться перед миром «повадкой отцов». Я этих беженцев, эти караваны и этих предводителей вспомнил исключительно по той причине, что эти беженцы – также и сегодняшнее явление, наше, тутошнее и, боюсь, что в еще большей степени – завтрашнее.
– А помните, Грант, Ваши же слова: «Прошли времена, когда человеку было привольно и легко на своей малой родине, а на чужбине одиноко и тоскливо»?
– А я, давай, напомню тебе, что родину сегодня покидает тот самый народ, который сразу же после Второй мировой войны вошел в гигантский 500-тысячный список репатриантов, двинувшихся в Армению, хочу сказать, что, направляясь в Армению, они ехали на родину… но прибыла к нам лишь ничтожно малая часть: у нас здесь не было места и не было средств. И полумиллионная эта масса, изгнанная из так называемой турецкой Западной Армении, прежде осела и воскресла в 1915 – 1922 годах в странах Ближнего Востока, но эти страны, несмотря на истинно братское отношение арабского и персидского народов, не стали им родиной. От нас уходят вот эти самые люди и их потомки. Нет, на далеких берегах они не лучше нашего живут. И все-таки они уезжают. Можно попросить, мол, уезжая, лишаете нас себя, можно осмеять, можно помешать, можно прельстить степенями и должностями, все равно они отдаляются, даже не уезжая, – родина как таковая для них не состоялась.
– Что ж, в Афинах или Лос-Анджелесе они будут чувствовать себя хозяевами и сделают эти страны своей родиной…
– Никогда. Самый незначительный социально-политический переворот, один лишь косой взгляд местных жителей, и они со всех ног кинутся к своим всегда готовым в дорогу чемоданам.
– Но сегодняшние большие народы произошли из малых народов, эти местные – всего лишь вчерашние пришельцы, так что сегодняшние пришельцы в более или менее мирной стране назавтра станут коренными жителями.
– Может быть, и так. И все же – не совсем так. Но даже если это так, я скажу, что это довольно неопределенное будущее таким образом пытается влиять на вполне определенную культуру вполне определенных людей. Называй это мирным нападением или агрессией, все равно. Перед человечеством сейчас неподъемной тяжестью встали проблемы, которые, возможно, очень дорого будут стоить Планете, они накопились в результате маленьких осечек вчерашних людей, выросли из крошечных несправедливостей и незначительных их ошибок. Если бы мы наши сегодняшние проблемы решали по совести – перед завтрашним поколением встали бы только ошибки дедов. Мы бы избавили их хотя бы от наших ошибок. Помнишь, у Рэя Брэдбери есть славный такой рассказ «И грянул гром», где охотник по неосторожности раздавил бабочку в прошлом, а в настоящем, на выборах президента, победил представитель реакционной бешеной партии.
Сегодня тоже что-то растаптывается, и мне стыдно, моя суть – моя душа, мое тело армянского писателя – несказанно болит. Позорно быть сыном того дома, откуда вынужденно бегут твои братья, которые столетиями слагали песни тоски и возвращения и чей путь столетиями – через самые разные страны – вел к дому. Хочется крикнуть: «На помощь!» Но я не верю в чью-либо спасительную помощь и молчу, и даже начинаю предполагать, что судьбой, пожалуй, именно так и запланировано-задумано, чтобы из своей удушливой саднящей оболочки мое «национальное» тело стремилось к анациональной безболезненной свободе…
Когда Грант прилетал в Москву по делам, как правило, литературным, мы с ним гуляли по центру, он его неплохо знал и любил: шли по набережным, по Бульварному кольцу и разговаривали – на этакой смеси армянского с русским (по-русски Грант говорил плохо, и я, признаюсь, знала армянский… не виртуозно). Идем однажды мимо Литературного института, он останавливается, зависает…
– Хочешь, – спрашивает, – расскажу, как много лет назад мы с писателем Зорайром Халафяном приехали в Москву поступать в Литературный институт, на Высшие сценарные курсы?
– Хочу, – соглашаюсь, – давайте, рассказывайте.
– Русский язык я в то время знал очень плохо. На экзамены мы опоздали, приехали прямо из аэропорта, голодные, замерзшие, города не знаем, где будем ночевать – не ясно. Но экзаменатор, добрая женщина, привела нас в пустую аудиторию, посадила порознь, чтобы не списывали друг у друга, дала три темы. Помню из них только две: «Месть» и «Неожиданная встреча». Ну, что такое неожиданная встреча, я понял – «Толстый и тонкий». А вот слово «месть» очень понравилось.
– Зорик, – спрашиваю, – что такое месть?
Он объяснил. У меня на эту тему недавно был написан рассказ. Я устроился поудобнее и стал его переписывать. Красиво так пишу, без помарок, каждую буковку вывожу. А Зорайр то что-то лихорадочно строчит, то тихонько переговаривается с преподавателем. Чтобы я не слышал. Стесняется своих несовершенных знаний русского языка. А я что, я и вовсе мало что понимаю.
Преподавательница наша совсем уж было почувствовала себя учителем в школе, ходит между рядов, скрестив руки, наблюдает, чтобы мы не переговаривались. Подошла ко мне, заглянула через плечо и удивилась:
– Что Вы делаете?
– Пишу рассказ, – говорю. И так мне уже хорошо, не холодно совсем, преподавательница молодая, симпатичная…
– На каком языке пишете?
– Какой-какой, свой, армянски. Какой тема, понял, а писать русски не могу.
– Ну, ладно, – махнула она рукой, – пишите, переведем к а к – н и б у д ь…
Смотрю, Зорик насмешливо так бровь приподнял, мол, вот деревенщина… И строчит резво так, уже полстраницы написал. Но вскоре я заметил, что товарищ мой заерзал. Оглянулся на меня и жалуется:
– Полстраницы написал, а дальше не идет, что делать?
Я обрадовался и кричу преподавателю:
– Видили, и он русски рассказы писат не можит.
– Ладно, – согласилась она, – пишите оба на армянском. На сценарном отделении есть ребята из Армении, попросим их перевести.
Написал мой друг пару строк на армянском и за голову схватился:
– Не идет никак, что за чертовщина? Теперь уже все перепуталось! Не могу с русского на армянский перейти.
Наш экзаменатор оглядела нас с непередаваемым выражением глаз и говорит:
– Идите, устраивайтесь в общежитие… Соберетесь с мыслями, напишете…
На следующий день мы с мужем, нашим десятилетним сыном Суреном и дорогим гостем, писателем Грантом Матевосяном, отправились на дачу к друзьям в Подмосковье. На шашлыки. Сын Сурен к тому времени успел меня порадовать нацарапанными собственноручно несколькими повестями и рассказами. Один из рассказов назывался «Собака», был коротким, философски осмысленным и очень мне, сумасшедшей мамаше, нравился. И, конечно, я подсунула его Гранту…
Грант долго мялся, мялся, а потом, буравя взглядом нашего отпрыска, отрубил: «Знаешь, Ирина, он у тебя такой безупречный, что… из него ничего не получится!..»