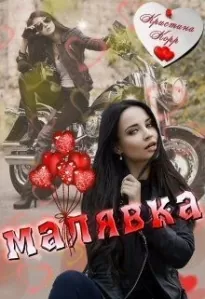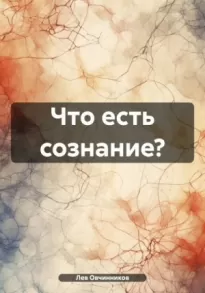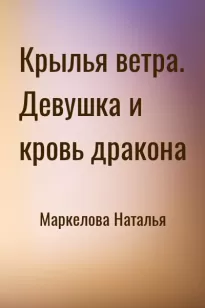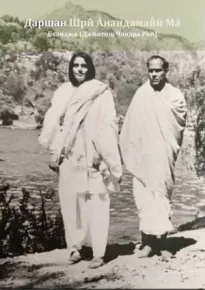Тени незабытых предков
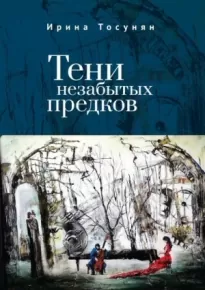
- Автор: Ирина Тосунян
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Тени незабытых предков"
Сергей Параджанов. Художественный образ накрытого стола
Разговор с Александром Литовченко, актером, режиссером, неординарным человеком, наделенным пылким умом и живым, практически авантюрным воображением, случился не запланировано, а, что называется, «вне графика». И… благодаря Сергею Параджанову. Который, как всем известно, тоже имел превосходное авантюрное воображение и упорно, упоенно и неиссякаемо занимался мифотворением и мистификацией, придумывая о себе и о других сногсшибательные истории, где вымысел прихотливо и круто сплетался с происходившими на самом деле событиями. Да так мастерски их обрамлял, что и сегодня не расплести, где правда, где вымысел, где намек, где ретроскопическая аберрация памяти…
А дело было так. На площадке Theatre You (San Francisco, Bay Area) Александр Литовченко и актриса Елена Сикорская, его партнер и сорежиссер спектакля, поставили и замечательно, с аншлагами сыграли романтико-абсурдистскую «пьесу на двоих» известного французского драматурга Бенуа Фуршара «Диковинная болезнь». После спектакля, во время фуршета, из нескольких брошенных актером фраз я узнала, что в самом начале своей артистической карьеры он около четырех лет прослужил в Тбилисском ТЮЗе. Когда были названы годы, меня осенило:
– Александр, уверена, Вы не могли пройти мимо такого уникального явления, как Сергей Параджанов… Он тогда жил в Тифлисе.
– Нет, Ирина, не только, как вы сказали, «не прошел мимо», но волею судьбы, вернее, волею Гарика Параджанова, племянника Сергея Иосифовича, познакомился и даже часто с ним общался…
– Счастливое для меня, журналиста, обстоятельство. Ведь дом на Коте Месхи, где жил Параджанов, его сын Сурен в 1995 году продал грузинской семье за пять тысяч долларов. Мне рассказали друзья, что там теперь висит табличка: «Гостевой дом». И, думаю, комнаты в этой гостинице вполне востребованы. Есть много людей, которые так же как и я называют Параджанова гением и, естественно, хотели бы узнать о нем как можно больше. Атмосфера тех лет. Люди, его окружавшие… Расскажите все, что помните, я знаю, что у актеров память цепкая, глубинная, фотографическая… Как Вы вообще оказались в Грузии?
– У меня был друг, Леня Рубановский, на пару лет старше меня. Окончив школу, он поступил не в театральный институт, как я (поскольку был еврей, ну, понимаете, с этим пятым пунктом все было сложно), а в Институт культуры. Окончил факультет режиссуры. И вот как-то Леня мне позвонил – я тогда активно искал, в какой бы театр устроиться, – и предложил:
– У нас есть вакансия. Приедешь?
– Куда, – спрашиваю, – ехать?
– В Тбилиси…
– Приеду. Почему нет? Русский театр… Хороший город…
Прилетаю в Тбилиси. 1987 год. Февраль…
– Вот приехали Вы в Тбилиси в феврале. И что там увидели?
– Красоту увидел. Была зима. Легкий снег. Тбилиси меня очаровал. Очаровала архитектура, очаровали люди, очаровало то, как они отнеслись ко мне. И в театре тоже. Я пришел на прослушивание, что-то там пытался прочитать, как такового репертуара для прослушивания у меня не было. Главный режиссер говорит: «Читай, что хочешь». «В армии, – отвечаю, – читал «Теркина».
– Какую часть Теркина прочитали?
– «Гармонь». Через пять минут после того, как вышел из зала, главреж позвал к себе в кабинет: «Оформляй документы».
Мне выделили комнату в общежитии на Плеханова. Как оказалось, в этой же комнате, когда работал в Тбилиси, жил Евгений Лебедев. Тут же посыпались роли: сначала ввели в детский спектакль, потом стал играть в вечерних, взрослых – «На всякого мудреца довольно простоты», в опере «Клоп», где у меня была роль Присыпкина. Да, – что смотрите удивленно? – пел, ну, пением это, конечно, сложно назвать, так, мелодекламировал. Мне очень нравилось. Оставался я в Грузии почти до 1990 года.
– А как складывалась Ваша жизнь до Тбилиси? Это ведь не первый для Вас сценический опыт?
– Нет, не первый. Но – второй. Окончил в 1984 году театральный институт в Киеве. Перед получением диплома меня пригласили на «Ленфильм» на съемки в картину «Левша». Была в Ленинграде помощник режиссера Неля Баркова, она в моей судьбе сыграла важную роль. Предложила, мол, давай возьмем тебя в штат киностудии как молодого специалиста. «Я, – отвечаю, – военнообязанный, меня скоро призовут». Она: «Значит, призовут тебя в Ленинград. Будешь работать на студии и служить в армии». Так и получилось. Приехал в Ленинград в июне, мы начали работу в фильме, у меня была роль подмастерья в «Левше». Потом получил повестку из военкомата и отправился служить под Ленинград, в оркестр Ленинградского военного округа, который тогда размещался в городе Сосновый Бор, в часе езды на электричке.
– Вы занимались музыкой?
– Да, я окончил музыкальную школу. Меня спросили: «Ноты знаешь? Будешь играть на трубе!» Когда вызывали на съемки, я уезжал в Ленинград. Заканчивал – возвращался в воинскую часть.
– Замечательная была служба.
– Да, легкая. После службы, это был 1986 год, позвонил маме и сказал: «Я демобилизовался. Возвращаюсь в Киев». На что мама отрезала: «Нет, ты не возвращаешься в Киев. Ты что, новости не читаешь?» – «Почему, читаю, знаю, что в Чернобыле неполадка какая-то…» – «Это не просто неполадка», – ответила мама… Шел май 1986 года. Я остался в Ленинграде, продолжил съемки, у меня уже был подписан договор на несколько других фильмов.
– Словом, попали в обойму.
– Да, начал сниматься в многосерийке «Джек Восьмеркин, американец», играл одного из коммунаров, ну, там, включая Сашу Галибина, все были коммунары (десять лет спустя Литовченко получит роль уже в знаменитом американском многосерийном фильме Nash Bridges. – И.Т.). Потом была картина со Светланой Немоляевой «Предлагаю руку и сердце». Как молодому специалисту мне пока давали эпизодические роли. И я почувствовал: не хочу играть в кино, хочу в театр! Кино – это, конечно, деньги, кино – это, по молодости лет, ощущение, что могу позволить себе все…
– Вы тогда уже такие вещи понимали?
– Ну, конечно. Деньги меня баловали, я мог позволить себе многое, поскольку денег было много. А я хотел расти как актер, набираться опыта. Потому что в кино – это все от случая к случаю: возьмут тебя в картину – не возьмут, постоянные колебания, постоянные маленькие роли. Хотелось чего-то более содержательного, хотелось на сцену выходить каждый вечер. Такие вот были юношеские желания.
– И тут позвали в Грузию…
– А Гарик Параджанов, с которым мы в театре сблизились и подружились, ввел меня к себе в дом. Так я и познакомился с Сергеем Иосифовичем.
Потом в Тбилиси начались демонстрации на площади Ленина рядом с театром… Постепенно русским стало довольно сложно там находиться.
– Даже так?
– Смотрите: я получил служебную однокомнатную квартиру в новостройке Вазисубани. Квартиру грабили дважды, вычистили все. У меня была девушка, впоследствии она стала моей женой, матерью моей дочери. Тамара Нижарадзе – балерина, танцевала в Театре оперы и балета имени Закарии Палиашвили. Нам было сложно. Когда мы куда-то ходили, ехали на работу, оскорблений сыпалось слишком много – и в ее, и в мой адрес (по мне же видно, что я не грузин). И в результате мы решили: нужно уезжать. Тем более что к тому времени мне пришло приглашение из Москвы.
– В какой театр?
– В театр-студию Анатолия Васильева.
– Ух ты! Так мы совсем рядом находились. Редакция «Литературной газеты» была за углом. Васильев – на Сретенке, мы – в Даевом переулке… И вы уехали в Москву…
– Мы с Гариком уехали в Москву. Гарик – в «Современник». Я – позже – к Анатолию Васильеву. Проработал год. Отыграл в двух спектаклях. Моими партнерами были Альберт Филозов, Леша Петренко. Через год приехал в отпуск в Киев. Шел 1991 год.
Для жены в Москве работы не нашлось, я ей предложил: поедешь в Киев, там мои родители. Да и от Москвы близко. Она устроилась в Киеве в балет Детского музыкального театра. И вот я приехал через год в гости, а друзья мне говорят: «Давай к нам – в театр «Гротеск». Он только-только открылся». Мне это было интересно, такая форма театра любопытна.
Я вернулся в Москву и объявил Васильеву, что не буду подписывать контракт на следующий год.
– Такой хороший театр! Я его обожала… А Вы – раз! – и концы обрубили.
– Да, хороший, потом жалел, что поторопился. Но «Гротеск» был, действительно, театром единомышленников, очень сплоченный коллектив: Алик Левит, Толя Дьяченко, Миша Церишенко… И я вошел туда легко. Потом у нас с Тамарой родилась дочь. Но так уж получилось, что несколько лет разлуки охладили наши отношения. В 1993 году я уехал в Америку.
– Хорошо. Давайте вернемся к Параджанову.
– Когда в первый раз поднимался вместе с Гариком Параджановым на улицу Коте Месхи… Знаете, Ирина, я видел немало грузинских фильмов – эти улочки узенькие, эти колоритные домики, поднимающиеся вверх на Мтацминду тротуары… Но воочию… Восторг! Подниматься было трудно, крутая гора, крутая улица, брутальная брусчатка… Но мы – молодые, веселые.
– Вы уже знали, кто такой Параджанов.
– Конечно же, знал, «Тени забытых предков» уже видел. Тогда, в первый раз, мы не шли целенаправленно знакомиться с Параджановым. Просто после репетиции Гарик пригласил к себе домой пообедать.
Вскарабкались наверх, подошли к дому. И… оказалось, еще два пролета нужно подняться по деревянным лестницам на веранду. Параджановы жили на втором этаже. Отчетливо помню ту веранду – буквой «Г», зигзагом, она огибала дом. В правой части жили соседка с сыном. А Гарик, его мама и Сергей – в левой части. То есть поднимаешься по лестнице и попадаешь прямо к нему в дом. Там было четыре комнаты: гостиная, кухня и еще две комнаты. Проходишь дальше по веранде – еще одна дверь, в отдельную комнату. Это и была мастерская Параджанова. Вот там веранда и заканчивалась. Окно комнаты-мастерской смотрело в гостиную. На стенах веранды висели коллажи и другие работы Параджанова. Меня сразу поразила большая клетка для попугая, подвешенная к потолку веранды. В клетке на жердочке висел… старый рваный ботинок. Я мысленно сразу воскликнул: класс!
Понимаете, Ира, у Параджанова нужно было учиться именно этому: художественному видению, совмещению предметов несовместимых. Кстати, за углом, на веранде же, рядом с окном мастерской был коллаж из тряпочек. Нарезанные тряпочки, наклеенные прямо на стену: две фигуры – мужская и женская. В национальных костюмах. Бурка мужчины никак не выделена: просто тряпочки, просто мужчина и просто женщина. Но у мужчины на причинном месте висел во-о-от такого размера (разводит руки в стороны. – И.Т.) ключ. А у женщины – замок. Там же стоял стол, где мы потом и кофе пили, и вино, и общались…
А потом я вошел в дом.
Первое ощущение от Сергея Иосифовича – он к нам вышел в майке, в семейных трусах (было жарко, весна уже), у Параджанова был животик, и майка оттопыривалась. Потом я понял: в бытовом плане он никогда не был фетишистом. Для него одежда роли не играла. То есть он мог принимать людей просто в майке-алкоголичке и в трусах. Или в протертых старых штанах. Все!
– Это не было формой проявления эпатажности, вызовом?
– Нет, не было никакой эпатажности. Было правило: «В чем мне удобно, в том и хожу. Как мне удобно, так я и хожу». Он был человеком с чувством юмора. Шутил, подкалывал довольно интересно.