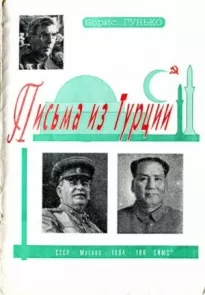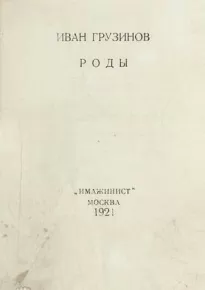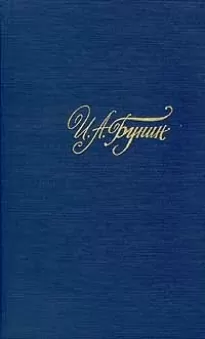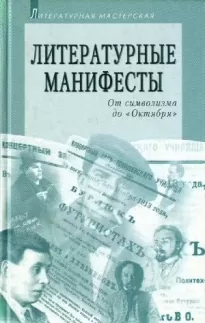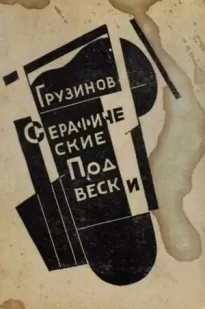Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953
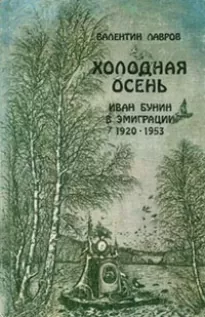
- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Биографии и мемуары / Публицистика
Читать книгу "Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953"
ГЛАВА I
С утра было свежо и солнечно. Золотые купола Белокаменной сияли радостью нового дня и наступившего лета. Буйно распускалась молодая зелень. Создавалось впечатление мира на земле и людского благополучия.
У Никитских ворот, в церкви Большого Вознесения, ударили колокола. С шумом стая ворон взмыла в синь неба, огласив ее бездонность зловещим криком. Нет, больше не было мира, не было уюта. Рухнул налаженный быт, поломали порядки, устоявшиеся веками и сотворенные нашими прадедами.
Двери парадного подъезда в Скатертном переулке были растворены. Из квартиры на нижнем этаже выносили книги. Молодой приказчик букинистической торговли «И. М. Фадеев и сыновья», что возле памятника Ивану Федорову на Лубянке, широкоплечий парень с постоянной улыбкой на скуластом лице, ловко перекидывал в телегу тяжелые вязки.
Наконец вытащили последнюю. Приказчик пристроился на краю телеги. Извозчик, хриплым голосом понукая кобылу, захлопал по ее раздутым бокам вожжами, заскрипели в осях колеса.
У подъезда стоял стройный, сухощавый человек в легком пальто горохового цвета, нервно теребя короткую бородку. Он следил за телегой, пока та не свернула в Медвежий переулок.
Человек этот был почетный академик и писатель Иван Бунин. На следующий день 23 мая, в половине третьего пополудни, он вместе со своей женой Верой Николаевной Муромцевой, племянницей покойного председателя первой Государственной думы, отправился на Савеловский вокзал. Деньги, полученные от продажи книг, пошли на дорожные расходы.
Еще накануне к вечеру внезапно потеплело. Время от времени принимался мелкий дождик, над улочками повис молочный туман. Лихач постоянно придерживал резвого жеребца, под которого то и дело норовили влезть зазевавшиеся прохожие.
Миновали Кудринскую, свернули к Долгоруковской. Бунин жадно вглядывался в окружающее, скрытое дождем и туманом. Сердце, вещун на все плохое, говорило: никогда тебе не видать этих улиц, гляди в последний раз…
Он не представлял себе жизнь без этого города — утробного, сытного, грешного, с его «Яром», лавками букинистов, двуглавым орлом над Спасской башней, Трубной площадью, где торговцы копошатся, как раки в решете, гостиницу «Лоскутную» и Большую Московскую гостиницу. Здесь он познакомился с Антоном Павловичем — в 1895 году. Здесь же в ресторане или в «Праге» на Арбате отмечали выход книги, новый спектакль, рождество, юбилейные даты, приезд или отъезд товарища… да мало ли чего отмечали! Жизнь казалась каждодневным праздником. Сколько выпили шампанского с Горьким, Шаляпиным, Телешовым, Рахманиновым, Алешей Толстым, тем же Чеховым, который очень любил рестораны и ужины. И всегда рядом был брат Юлий — на двенадцать лет старше, рассудительный, горячо любимый.
Юлий жил на Арбате, в одном из его многочисленных переулков — Староконюшенном. Однажды, возвращаясь пешком к себе домой, наговорил вслух стихи:
…Стало заветривать, несколько разогнало мгу. Извозчик пустил жеребца — только шляпу держи, несет вовсю!
А как они носились по Мясницким, Якиманкам, мимо Красных ворот и ворот Сретенских! Только сани подскакивали на наезженной мостовой! Какими яркими пятнами на фоне белого снега выделялись кучерские синие армяки, стеганные на вате, в складках, в фалдах, перехваченных широкими поясами с серебряным набором — все мужички как на подбор рослые, с русыми кудрявыми головами, с озорным криком «Гись!».
Куда до них припершимся откуда-то из-за границы лакированным авто, тут же прозванным москвичами «вонючками»!
Вспомнилось почему-то то неожиданное и сильное, что испытал недавно, в конце зимы, когда ездил на Николаевский вокзал встречать Юлия. Выехав с Мясницкой на Каланчевку, вдруг увидал распахнувшуюся сказочную сизую даль — золотые маковки древних церквей, груду лежащих внизу приземистых домов с белыми дымами из труб, длиннущий Запасной дворец на Басманной. И толпы, толпы мужиков в армяках цвета ржаного хлеба, баб в ярких платках и ладных полушубках. С недалекой церкви Петра и Павла, что за голицынским приютом, над всем этим разливался тягучий и мерный колокольный звон, звавший к заутрене.
— Господи, — перекрестился на колокольню Бунин. — Ну просто сцена из древней жизни, как на картине Сурикова. — И сердце его наполнилось особой благостью, особой любовью ко всем этим бабам, мужикам, извозчику, подгонявшему одра, к этим древним камням — ко всему, что зовется Русью.
И даже теперь, при воспоминании той, непонятно почему ранившей его картины, ему сделалось особенно грустно и сладко, как бывает в предвкушении чего-то гибельного и невозвратного.
На вокзале, как и было условлено, Бунин отправился в зал ожидания. Здесь в жуткой толчее, среди солдат, крестьян с громадными мешками и штатских с чемоданами, он отыскал дожидавшихся его Юлия и Екатерину Павловну Пешкову, жену Горького.
Юлий спокойно отколупывал ногтем скорлупу вареного яйца, которые предусмотрительная Екатерина Павловна привезла отъезжающим, и отправлял яйцо в рот. Пешкова обняла Веру Николаевну, протянула руку для поцелуя Ивану Алексеевичу и быстро произнесла:
— Все в порядке! Вы поедете в санитарном вагоне, вместе с пленными немцами. Их везут менять на наших, на отечественных. Но посадка будет только к вечеру.
…Действительно, их посадили только в семь, в вагоне для медицинского персонала — прямо в столовой. Пешкова уехала прежде. Юлия в вагон не пустили. Он стоял перед закрытым и грязным окном, одинокий, молчаливый, пытаясь разглядеть за мутным стеклом брата. Тот махал ему рукой: «Иди домой, промок до нитки!»
Юлия беспрестанно толкали мешками, локтями, но он, словно окаменелый, упорно стоял и стоял под окном, а сверху, стекая с крыши вагона, его поливал дождь… В его лице застыла безнадежность.
Бунин держал путь в Одессу. Знатоков железнодорожных коммуникаций пусть не смущает выбор вокзала. В то бурное и весьма нескучное время путь к городу на Черном море пролегал через Оршу, Жлобин и Минск.
Поезд шел с вооруженной охраной, весь затемненный, мимо таких же затемненных станций, оглашавшихся порой дикими, пьяными криками. Бунин вдыхал сложный запах карболки, картофельного пюре и паровозного дыма.
Его плечо тронула Вера Николаевна:
— Ян, может, чай выпьешь?
«Чай, чай…» Он вспомнил чай в трактире Соловьева в Охотном ряду, куда он как-то зашел с Алешей Толстым. По залу не ходили — летали! — половые в белых косоворотках, с красными поясками о двух кистях, на столах весело сияли громадные блестящие самовары.
Кого здесь только не было! Купцы, между парой чая ладившие тысячные дела; богатыри — ломовые извозчики, согревавшие свое бездонное нутро «китайским бандерольным»; нищий, «настрелявший» у Иверской часовни «синенькую», а теперь пьющий чаек с филипповским калачом и халвой, которую он достает грязной обезьяньей ладошкой из жестянки, на которой написано: «Паровая кондитерская фабрика братьев Максимовых в Москве»; и даже невесть откуда затесавшихся сюда двух дам, благоухающих «Убиганом» и «Гризелией» (36 рублей флакон, фирмы А. Ралле и К0).
Писатель должен знать все, каждую мелочь, на которую обычно и внимания никто не обращает. Те же московские вывески! Какие красавицы вывески были на Мясницкой — «Первоклассные чаи всех сортов торгового дома С. В. Перлова» или «Шляпочная мастерская И. В. Юнкера» с забавной рожицей в военной шляпе с развевающимся султаном. На Божедомке — «Хлебное заведение Титова и Чуева». Гигантский магазин — универсальный! — в доме под номером 2 на Петровке — «Мюр и Мерилиз». И на каждом углу — «Керосин и минеральные масла И. Н. Тер-Акопова».
Пройдет всего два года, и безутешные владельцы ценных бумаг концессии Тер-Акопова будут осаждать биржи Европы и Америки в надежде получить за них хоть какие-нибудь гроши.
Сгинут куда-то Титов, Чуев и даже знаменитые Шустов, Сиу и Абрикосов с сыновьями. Останется на Мясницкой чайный магазин, но никто не будет помнить фамилию его славного основателя Перлова, завязавшего торговлю с далеким Китаем еще во времена Екатерины II. Впрочем, так ли уж это давно было?
«Чай, чай…»
Все было. Ковровые сани, юбилеи, речи — полные изящных оборотов и неумеренного восхваления, выход еще одной новой книги, ругань «передовой» критики, присуждение Пушкинской премии, причисление к лику «бессмертных» — выбор в почетные академики Российской академии наук по разряду изящной словесности.
(Спустя несколько лет, проживая в Париже, Бунин обидится на статью «законодательницы поэтических мод» Зинаиды Гиппиус, назвавшей поэзию Ивана Алексеевича «описательством». Вместе со своим спутником, знакомым журналистом, он сядет на площади Согласия в такси. Не разглядев, что шофер русский — обычно это легко определялось с первого взгляда, но теперь, видать, гнев глаза застил — Иван Алексеевич начал «костить» Гиппиус, не стесняя себя в выражениях.
Когда пришла пора выходить, шофер вдруг повернулся к Бунину:
— Простите, господин, вы, наверное, из флотских будете?
Тот ледяным тоном ответил:
— Нет, любезный, я всего лишь академик по разряду изящной словесности.
Шофер вполне оценил «шутку» — он от души смеялся:
— Действительно, «изящная словесность!»)
В последние месяцы в Москве жизнь круто переменилась. Тяжело стало с продовольствием. Участились случаи грабежей, насилий. На улицах случались перестрелки. Под одну из таких Бунин попал, возвращаясь к себе от брата. По счастью, остался невредим.
Каждый день приходили новые, пугающие слухи. То рассказывали про какого-то отчаянного «атамана матросов» Ривкина, не признававшего ничьей власти, зато грабившего и убивавшего всех подряд. То кухарка вдруг сделалась неприветливой и грубой. Она всех уверяла, что скоро «прикончат живущих в доме буржуев».
Бунина пригласили читать стихи в какое-то кафе, где царствовало «левое» искусство. Он пришел, увидел, что в клубах табачного дыма «сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников». Отказался от большого гонорара, ушел, чтобы никогда не возвращаться к этой «литературной низости».
В мартовские дни восемнадцатого года он записал в дневник: «Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь — и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра».
И опять самые невероятные слухи баламутят народ, и напуганные люди готовы всему верить. Вот и теперь ползет зловещий слух: на город прет германец, вот-вот Москву захватит.