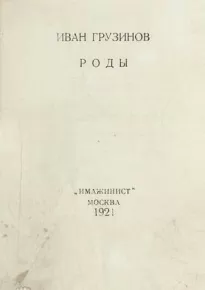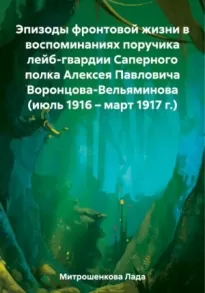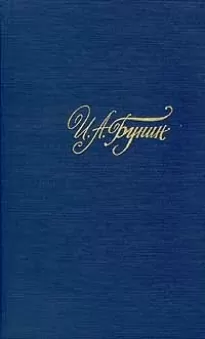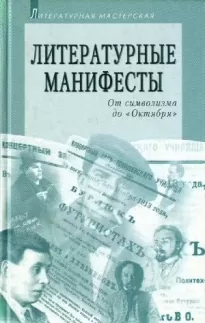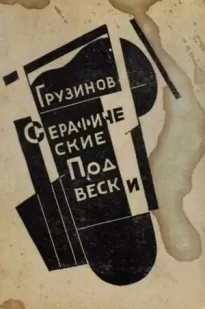Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953

- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Биографии и мемуары / Публицистика
Читать книгу "Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953"
ГЛАВА XV
В середине января 1948 года Бунины приехали на берег Лазурного моря, в Жуан-ле-Пен. Как обычно, пристанищем стал «Русский дом». Сколько воспоминаний было связано с этим местом!
…Пышно цветут белые и красные розы, сухо шелестят листья пальм. Мистраль ласкает ветви лимонных, оливковых и апельсиновых деревьев. Из окон пансионата видны белые вершины гор.
Приезд знаменитого писателя наделал переполоху среди обитателей дома. Всем хотелось побеседовать с ним, получить — хоть на открытке — автограф. Но Иван Алексеевич зажил замкнуто, принимал у себя лишь Алданова, успевшего перебраться из США в Ниццу.
Напротив комнаты Ивана Алексеевича — дверь в дверь — жила Ирина Одоевцева с мужем поэтом Георгием Ивановым. Их обоих он знал с незапамятных времен. Порой по-свойски заходил к ним — вполне в домашнем виде: в сером, видавшем виды, теплом халате и вышитой тюбетейке. Усевшись в удобном мягком кресле, Бунин любовался великолепным видом на море и синеющими вдали горами. Ирина Владимировна ставила перед гостем чашку кофе. Он начинал вспоминать прошлое:
— Это полезное для меня занятие, — словно оправдываясь, говорил он. — Теперь готовлю книгу воспоминаний…
К счастью, Одоевцева добросовестно воспроизвела эта беседы, проходившие, впрочем, гораздо чаще во время длительных неторопливых прогулок по живописным окрестностям Лазурного моря.
В присутствии Ивана Алексеевича скучать было невозможно — это утверждение Одоевцевой. Он, как никто другой, умел заставить собеседника переживать вместе с ним все его чувства, видеть его глазами, слышать его ушами. Слушающий Бунина словно становился участником его жизни: граница между ними как бы исчезала, и собеседник, словно под гипноз, попадал под могучее бунинское обаяние.
Некий впечатлительный и несколько нервный поклонник Бунина, содрогаясь от собственного рассказа, с ужасом говорил Одоевцевой:
— Я его теперь просто боюсь! Как-то по воле случая я оказался с Иваном Алексеевичем в одном купе поезда. Он был очень взволнован чем-то, жаловался на обстоятельства, а я слушал и волновался рассказу не меньше, чем он сам. Вдруг Бунин поднял свою красивую сухощавую руку и говорит: «Ах, как болит! затекла!»
И что вы думаете? В тот же момент я ощутил: и моя рука затекает. Испугался, да в коридор — шмыг! Так всю дорогу и простоял. Мне страшно стало. Словно себя потерял…
Одоевцева вспоминала, как Иван Алексеевич доставал из кармана табак и аккуратно скручивал папиросу:
— И дешевле, и лучше готовых!
Он не совсем был доволен своей жизнью, считал, что мало и плохо использовал дар, отпущенный ему природой.
— Но ведь вы прославились, — возражала Одоевцева. — На весь мир…
— Ну и что! — с жаром возражал он. — Если бы в своей стране! А то на чужбине… Что мне эта Нобелевская премия — а сколько я о ней мечтал — принесла? Чертовы черепки какие-то. И разве иностранцы оценили меня? Вот я написал лучшую свою книгу «Темные аллеи», а ее ни один французский издатель брать не желает… Да, — говорит Бунин, снова вспоминая «Темные аллеи», в который уже раз, — это лучшее, что я за всю мою жизнь написал. А разве кто понимает?
Я считаю «Темные аллеи» лучшим, что я написал, — продолжал он запальчиво, — а они, идиоты, считают, что я ими опозорил все свои седины, что это порнография и, к тому же, старческое бессильное сладострастие. Не понимают, фарисеи, что это новое слово, новый подход к жизни!»
До конца жизни Бунину, кстати, приходилось защищать свою любимую книгу от «фарисеев». Так, 10 марта 1951 года он писал Ф. А. Степуну: «…Жаль, что вы написали в «Возрождении», что в «Темных аллеях»
— Но не много ли самоубийств и убийств в них? — осторожно спрашивает собеседница. — Мне кажется, что это какое-то юношеское, чересчур романтическое, понимание любви: чуть что — ах! и она вешается или стреляется, или он убивает ее.
— Вот как? По-вашему незрело, романтично? Ну, значит, вы никогда не любили по-настоящему. Понятия о любви у вас нет. Неужели вы еще не знаете, что в семнадцать и в семьдесят лет любят одинаково? Неужели вы еще не знаете, что любовь и смерть связаны неразрывно? Каждый раз, когда я переживал любовную катастрофу, — а их, этих любовных катастроф было немало в моей жизни, вернее почти каждая моя любовь была катастрофой, — я был близок к самоубийству. Даже когда никакой катастрофы не было, а просто очередная размолвка или разлука. Я хотел покончить с собой из-за Варвары Пащенко. Из-за Ани, моей первой жены, хотя я ее по-настоящему и не любил. Но когда она меня бросила, я буквально сходил с ума. Месяцами. Днем и ночью думал о смерти. Даже с Верой Николаевной… Ведь я был все еще женат, и моя первая жена назло не желала со мной разводиться. Я боялся, что Вера Николаевна откажется. Не решится соединить свою жизнь со мной. Ведь это было еще до первой мировой войны. Светские условности и предрассудки Анны Карениной были еще живы. А она — Муромцева, племянница известного профессора, председателя 1-й Думы. Но жизнь без нее я себе не представлял. Если бы она не решилась, отказала мне, я непременно…
Он замолкает на минуту, глядя в окно.
— И теперь еще, — голос его звучит устало и грустно. — Совсем недавно. Вы же знаете… В сущности, я был очень несчастен. Особенно в ранней молодости. Хотя я, как редко кто, расположен к счастью. Но столько противоречивых страстей терзали меня, просто рвали на части… Мне с собой не всегда легко. Прав Маллармэ: «Поэт должен быть несчастен». А я всегда поэт, хотя вы с Болгарином и не признаете моих стихов, прежде всего поэт. А уж потом прозаик.
Бунин выходил на прогулку только на закате, хотя доктор и Вера Николаевна пытались убедить его, что это вредно — каждый раз он рисковал опасно простудиться. (Предсказания их, кстати, сбылись: он вновь заболел воспалением легких.)
Упрямства его одолеть не умел никто. Даже он сам. Ведь он отлично знал, что этот средиземноморский закат, что «этот блеск — есть смерть». И все же он готов был рисковать бесконечно — лишь бы еще хоть раз насладиться этим великолепием красок, полной грудью вдохнуть настоявшийся столетиями запах моря. И он умел все замечать, малейшее изменение в погоде, каждый порыв ветра, прозрачность воздуха, быстро двигающиеся облака, которые вскоре громыхнут грозою, перемену освещения, ставшие вдруг в предгрозовой час глуховатыми звуки.
Он был неразрывно связан с природой, и связь эта ощущалась иногда не только как радость, но и как мучение, — настолько она была самодовлеющей, все себе подчиняющей, настолько прелесть мира до боли восхищала и терзала его.
— От этого восхищения порой я плачу, — как-то признался Бунин.
— Вы плачете от красоты природы?
— Вы не верите? — В его голосе звучит раздражение. — Я ведь вообще легко плачу, — это у меня наследственное — романтическая слезоточивость сердца, это от отца. Слезы закипают на глазах по разным причинам — от горя, от обид, от радости. От любви, от ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука!
Что, не вяжется с вашим представлением обо мне? — Бунин вдруг улыбается, и лицо сразу делается удивительно красивым и привлекательным, молодые синие глаза смотрят с лаской на собеседницу. — А о моей душе вы подумали? У меня душевное зрение и слух так же обострены, как физические, и чувствую я во сто крат сильнее, чем обыкновенные люди, — и горе, и счастье! И радость, и тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов. И прыгать от счастья. Да, даже сейчас — на восьмом десятке лет. Хотя какое же теперь у меня счастье? Конец жизни похож на ее начало: нищенская, полная печали юность, — нищенская, одинокая и тяжелая старость. Сколько навалилось на меня унижений, оскорблений! С протянутой рукой — парле ву франсе, шпрехен зи дейч? Подайте великому писателю, нобелевскому лауреату! Это при моей-то гордости! — ведь я нечеловечески, дьявольски горд… Представляете себе, каково мне теперь? А бесконечная, неперестающая тоска по России? Нет, никто не может даже представить, что я должен чувствовать теперь.
Из воспоминаний Ирины Одоевцевой[89]:
«Я смотрю на Бунина. Он шагает энергично, уверенно и широко. У него эластичная, ритмическая походка. Мне с ним легко идти в ногу.
Он совсем не похож на себя, того домашнего, в халате, в ночных туфлях и в одном из своих умопомрачительных головных уборов. От старческой сутулости и суетливости не осталось и следа…
Он с чисто восточной роскошью и богатством образов, сведений и деталей рассказывает об Африке, о Цейлоне, об Индии.
Я иду рядом с ним, слушаю его и снова, как всегда, изумляюсь тому, как он умеет показывать то, о чем говорит. Я уже чувствую себя в Дакаре, в Египте, на берегах Ганга.
Но он вдруг прерывает свои описания, поворачивается ко мне и смотрит не на меня, а поверх меня вдаль.
— Как давно я так, как с вами, вспоминая прошлое, не гулял. Как давно меня так, как вы сейчас, никто но слушал.
Оживление медленно сходит с его лица, и голос его звучит приглушенно и грустно.
— Только с ней когда-то. Мы с ней вдвоем постоянно гуляли, исходили все дороги, объездили все окрестности. И как это было чудесно. Она мало говорила, но как она умела слушать! И понимать меня. Раз, когда мы с ней возвращались домой, до того усталые, что с трудом передвигали ноги, я подумал — как хорошо было бы сейчас лечь здесь, под шуршащим тополем, обняться и уснуть вместе. И ведь мысль о смерти всегда присутствует в любви — мне вдруг мучительно захотелось не только уснуть, но умереть вместе с нею. Не сейчас, конечно, умереть с нею. А когда придет мой час. Я пожелал это с такой силой, что почувствовал боль в горле. Но я не сказал ей: «Я хочу умереть вместе с тобой». Нет, ведь она на столько лет моложе меня и будет еще долго жить после моей смерти. Я сдержался. Я не сказал ничего. И все-таки она почувствовала. Она поняла. Ее нежные, прелестные пальцы вздрогнули в моей руке — в ответ. Будто выражая согласие и готовность исполнить и это мое желание…
Он молчит с минуту, потом говорит срывающимся голосом:
— И все-таки она меня бросила, бесчеловечно бросила.
— А Веру Николаевну вы тоже так любите? — неожиданно спрашиваю я и, смутившись от собственной бестактности, чувствую, что краснею…
— Веру Николаевну? Нет. Совсем другое дело. Даже сравнивать дико. Люблю ли я ее? Разве я люблю свою руку или ногу? Разве я замечаю воздух, которым дышу? А отсеки мне руку или ногу, или лиши меня воздуха — я изойду кровью, задохнусь — умру…
И, помолчав, заканчивает:
— Всегда благодарю бога, до последнего моего вздоха благодарить его буду за то, что он послал мне Веру Николаевну».