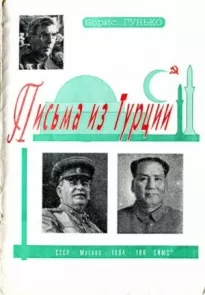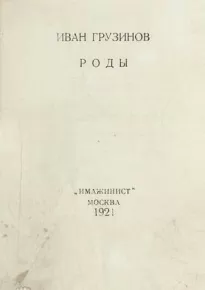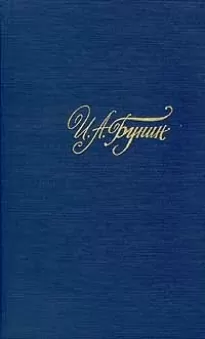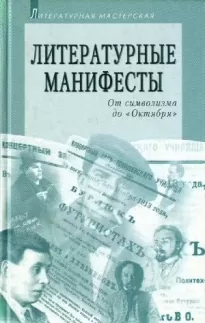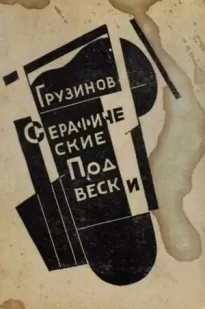Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953
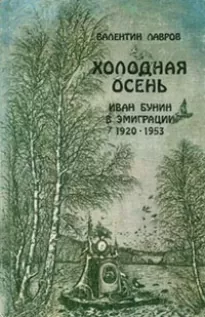
- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Биографии и мемуары / Публицистика
Читать книгу "Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953"
ГЛАВА XII
30 апреля 1945 года, выбрасывая в черноту южной весенней ночи огненные снопы искр, паровоз уносил в Париж облезлые вагоны третьего класса. В одном из полутемных купе, прижавшись друг к другу, тихо дремали супруги Бунины.
Накануне отъезда Иван Алексеевич провел в Ницце прощальный литературный вечер. В небольшом зале собрались только русские: обветшавшие, постаревшие и посеревшие за годы оккупации. Вспоминали тех, кто погиб от рук фашистов, от голода или старости: Мать Марию, Бальмонта, театрального критика Плещеева (сына известного поэта), писателя и крупного библиофила Михаила Осоргина, художника Константина Коровина, Павла Милюкова…
Но вот стремительно, неожиданно молодой летящей походкой на эстраду взошел Бунин. Протянув к публике руку с красивой крепкой кистью, он произнес чистым и сильным голосом:
Поэт сделал паузу. Он жадно вглядывался в лица, на которых время и жизнь оставили печать. Он знал многих — его знали все. Он был для них словно сияние ушедшего, светлого дня, который уже никогда не повторится и имя которому — молодость и Россия.
Он закончил. Аплодисментов не было. В зале люди плакали, и уже никто своих слез не стыдился.
Гром рукоплесканий раздался позже, когда Иван Алексеевич прочитал «Святителя», свой давний рассказ, написанный еще в двадцать четвертом году: «Только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души…»
Все это, через дрему, припоминал Иван Алексеевич. «В который раз переламывается моя жизнь!» — подумалось ему. И еще вспомнил чьи-то слова: «Настанет день, когда сердце должно или окаменеть, или разбиться!» Да, это про меня».
О чем бы ни думал, чем бы ни занимался, одна подспудная мысль не давала ему покоя. И началось это давно — Бунин тревожился за свои архивные бумаги, оставшиеся в Париже.
Когда летом сорокового года фашисты вошли в Париж, они при содействии предателей, возглавляемых неким Жеребковым, много ценных материалов похитили из Тургеневской библиотеки (основанной революционером Г. Лопатиным) и, выполняя план одного из гитлеровских главарей Розенберга, отправили их в Германию. Не тронули лишь то, что им показалось малоценным.
Среди счастливо уцелевшего были девять чемоданов Бунина, которые он, покидая Париж, оставил на сохранение в библиотеке. В начале августа сорок первого года оккупационные власти приказали очистить помещение Тургеневки.
Старая библиотекарша была озадачена: что делать с бумагами Бунина? Где-то она отыскала его адрес и написала в Грас: «Архив в опасности, принимайте меры!»
Иван Алексеевич всполошился: в этих чемоданах были его дневники, рукописи, корректура книг, большое количество писем к нему выдающихся деятелей. Но как можно что-то спасать в Париже, находясь за тридевять земель от него?
«Борис, сделай что-нибудь!» — писал Бунин Зайцеву. Но и тот жил вне Парижа и помочь был не в силах. Тогда Иван Алексеевич написал Нине Берберовой 23 сентября 1941 года: «…Если возможно, я бы предпочел, чтобы мои чемоданы (количеством девять) были перевезены на мою парижскую квартиру. В этом случае, сообщите мне, сколько будет стоить перевозка, чтобы я мог почтой вам возместить эти расходы. Если же это слишком трудно сделать, сохраните мои чемоданы с вашими. От всего сердца благодарю вас за ваши заботы, Нина…»
Чуть раньше Зайцев просил в письме Берберовой: «…Получил из Парижа известие, что остаткам Тургеневской библиотеки предложено до октября очистить помещение. Там кое-что осталось — для меня самое важное, что остался архив Ивана. Библиотекарша, думая, что я в Париже, просит содействовать в подыскании какого-нибудь «хоть бы сарая». Меня полки, шкафы и даже 300 (их) случайных книг мало интересуют… Но 9 Ивановых чемоданов? Там рукописи его, письма!
Мы с Верой (женой Зайцева. —
Знаю, что у вас тоже загружено все чрезвычайно, но все-таки — может быть и найдется угол? (Но как с передвижением?) Сколько стоило бы доставить? Всё вопросы существенные. Вы Ивана любите, я знаю, и дело серьезное… Ведь очень уж будет горестно, если архив пропадет…»
Все понимали важность бунинского архива, но он… оставался лежать на рю Валь-де-Грас, в Тургеневской библиотеке, месте крайне ненадежном. Наконец, покинув сельские пределы, в Париж вернулся Зайцев. Он договорился с Матерью Марией, что бунинские чемоданы сложат в чулане на улице Лурмель, где находились русское общежитие и столовая. Так и было сделано.
Казалось, судьба теперь может угомониться, а архив спокойно дождаться счастливых времен — изгнания немцев и возвращения своего законного владельца. Не тут-то было! Казалось, злой рок тенью сопровождает архив писателя. Однажды, когда солнце еще не успело подняться над крышами Парижа и обитатели русского общежития на улице Лурмель тихо вкушали сон в своих постелях, к общежитию подъехало несколько грузовиков. Они были набиты немецкими солдатами и бравыми помощниками бывшего танцора, а теперь начальника «управления делами русской эмиграции» с улицы Гальера, внука одного из генерал-адъютантов Николая II, уже знакомого нам Жеребкова.
Словно на штурм неприступных позиций, прибывшие вояки ринулись в атаку. Каждый безупречно знал свой маневр: одни оцепляли здание, другие, ворвавшись в помещение, грубо подымали еще не стряхнувших с себя сон людей, в основном престарелых и больных. Они обыскивали их, распарывали матрасы и подушки, простукивали стены, подымали пол — нет ли тайников? Бумаги, книги вываливались на пол, их топтали сапогами. Борцы за «новую Европу» действовали четко и жестоко. Во дворе клубился столб дыма — жгли литературу на русском языке. Арестованных русских (среди них была и Мать Мария, больше уже не увидавшая свободы) швыряли в грузовики.
Подгоняя штыком, вывели в одном нижнем белье и затолкнули в автомобиль профессора-историка Дмитрия Михайловича Одинца[83]. Он занимал пост председателя правления Тургеневской библиотеки. Как никто другой, Одинец понимал исключительное значение для русской и мировой культуры тех редчайших книг и рукописей, которые фашисты бандитски вывозили в «фатерланд».
Еще до начала Великой Отечественной войны один из главарей фашистской Германии Альфред Розенберг с 1923 года главный редактор ее центрального органа «Фёлькишер беобахтер» и крупнейший идеолог «нового порядка», разработал план тотального разграбления культурных ценностей оккупированных стран. План осуществлялся с педантичной неукоснительностью.
И вот Дмитрий Михайлович попытался с отчаянной решимостью воспрепятствовать этому вандализму XX столетия. Он начал ходить по разным «инстанциям», требуя возвращения украденных ценностей. Все, разумеется, было тщетно.
Тогда он написал письмо протеста… Адольфу Гитлеру. И вот, как горько шутили в Париже, «ответ пришел ночью, в сапогах» *.
…Когда солнечным полднем первого мая 1945 года Иван Алексеевич после шестилетнего перерыва вновь оказался на берегах Сены, одним из самых неотложных дел стало посещение общежития на рю Лурмель. К своей неописуемой радости и удивлению, он все девять чемоданов нашел в том чулане, куда когда-то сложили их Борис Зайцев и Мать Мария. Судьба на этот раз пощадила его архив…
Советский флаг реял над рейхстагом. Новая Россия, которую прежде Бунин знал лишь понаслышке, продемонстрировала всему миру свое могущество. Закончились тревоги старого писателя за судьбу Родины, одновременно с этим закончились его дневниковые записи. Лишь Вера Николаевна, совсем постаревшая и слабая, но как настоящая русская женщина без ропота переносившая все кошмары жизни и нелегкий порой характер великого своего мужа, иногда писала в дневник.
Вот одна из таких записей: «14/15 августа (1945 года).
Почти у всех друзей траур, у некоторых трагический…»
В послевоенном Париже, среди русской части его обитателей, вопреки тяжести пережитого, наблюдался душевный подъем. Многим казалось, что теперь, после победы, в России должны произойти какие-то перемены, которые позволят им вернуться домой.
И предчувствия не обманули. 19 июня 1946 года посол СССР во Франции А. Е. Богомолов направил письмо редактору недавно возникшей в Париже эмигрантской газеты «Русские новости» (взамен милюковских «Последних новостей») письмо.
В следующем же, экстренном номере газеты было опубликовано сообщение, которое давно ожидалось, но которое все равно вызвало всплеск необычных эмоций. «Русские новости» сообщали: «Правительство СССР приняло решение, дающее право каждому, кто не имел или потерял гражданство СССР, восстановить это гражданство и таким образом стать полноправным сыном своей Советской Родины… В годы Великой Отечественной войны большая часть русской эмиграции почувствовала свою неразрывную связь с советским народом, который на полях сражений с гитлеровской Германией отстаивал свою родную землю».
Во всех странах, где были русские эмигранты, многие из них пожелали перейти в советское гражданство. Лишь в одной Франции советское гражданство получили одиннадцать тысяч человек.
В середине июня сорок шестого года на рю Жак Оффенбах пришел корреспондент «Русских новостей». Его интересовало: «Как Бунин относится к Указу Советского правительства?» 28 июня в газете появился отчет об этом интервью. Иван Алексеевич, в частности, ответил: «Позвольте быть кратким, тем более что двух мнений об этом акте быть не может. Конечно, это очень значительное событие в жизни русской эмиграции — и не только во Франции, но и в Югославии и Болгарии. Надо полагать, что эта великодушная мера Советского правительства распространяется и на эмигрантов, проживающих и в других странах».
21 июля к вместительному залу Мютюалите собирались толпы русских. Здесь проводилось собрание, посвященное разъяснению Указа. Выступал посол Богомолов. Затем на сцену поднялся Константин Симонов. Зал замер, когда он начал читать «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». Несмотря на некоторые дефекты дикции, Симонов читал здорово, до глубины души растрогав соотечественников. Его долго не отпускали со сцены, просили читать еще…