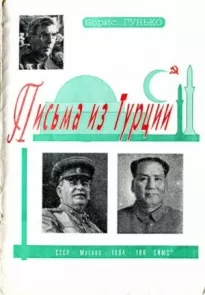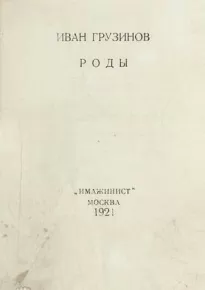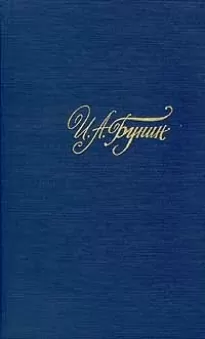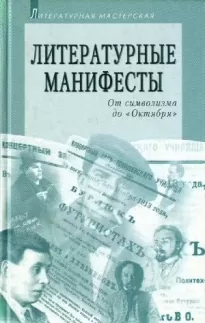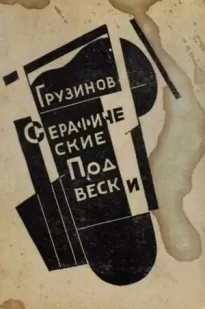Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953
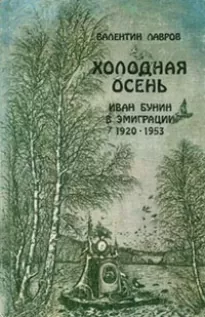
- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Биографии и мемуары / Публицистика
Читать книгу "Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953"
Когда вечер закончился, Симонову сказали, что в первом ряду сидит Бунин. Он подошел к Ивану Алексеевичу, их познакомили. Как и с Надеждой Александровной Тэффи, находившейся рядом с Буниным.
Спустя много лет Симонов вспоминал: «Бунин был еще крепкий, худощавый, совершенно седой, чуть-чуть чопорно одетый старик. Гордая посадка головы, седина, суховатость, подтянутость, жесткость и острота движений, с некоторой даже подчеркнутостью всего этого.
Он был как-то сдержанно-приветлив. И очень сдержан, и очень приветлив в одно и то же время.
Он поблагодарил меня за чтение стихов, сказал какие-то хорошие слова, спросил, долго ли еще пробуду в Париже, и заметил, что хорошо бы еще раз повидаться. Я, в свою очередь, сказал, что был бы очень рад вновь увидеть его. На этом мы распрощались.
…Когда я приехал в Париж, я понаслышке уже знал про абсолютно безукоризненное поведение Бунина в годы немецкой оккупации, слышал, что он категорически отказался хотя бы палец о палец ударить для немцев. Для меня, только что пережившего войну, это было главным оселком в моем отношении к людям.
Я относился к Бунину как к очень хорошему писателю и как к человеку, занявшему во время войны достойную патриотическую позицию. Я уважал его за это, и это уважение зачеркивало для меня некоторые неприемлемые страницы в его прошлом. Словом, мне хотелось, чтобы Бунин вернулся домой»[84].
Посол Богомолов, который, разумеется, был информирован о предполагающихся встречах Симонова с Буниным, рекомендовал Константину Михайловичу «как-то душевно подтолкнуть» Ивана Алексеевича «к мыслям о возможности возвращения».
И началось вполне дружеское общение — встреч, по утверждению Симонова, было шесть или семь. Богатый русский инженер и талантливый писатель (занявшийся литературным трудом, правда, на склоне лет своих) Борис Пантелеймонов для начала устроил встречу у себя дома (об этом вспоминает присутствовавший на ней Г. Адамович).
Бунин держался вначале несколько чопорно. С изысканной, слегка манерной, чуть ли не вызывающей старорежимной вежливостью, он проговорил, едва все уселись за стол:
— Простите великодушно, не имею удовольствия знать ваше отчество… Благодарю вас, Константин Михайлович, отстал я совсем от жизни, не скажете ли, вот был такой писатель, талантливый, известный — Пильняк. Отчего о нем давно не слышно? Куда он делся? Или другой — тоже известный, Бабель?
Бунин словно «закусил удила», что порой с ним случалось и без всякой видимой причины. Он начал перебирать имена людей, трагическая судьба которых была хорошо известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову и лишь иногда по-военному коротко отвечая:
— Не могу знать.
Пантелеймонов был удручен таким началом события, которое было задумано как настоящий праздник — имя Симонова было в Париже овеяно ореолом славы, и это была несомненная честь — принимать его у себя дома. Адамович тщательно пережевывал колбасу. Вера Николаевна едва не плакала от досады.
Но всех выручила умница Тэффи, весьма, кстати, понравившаяся своим легким и добрым характером гостю из Москвы. Она рассказала какую-то уморительную историю, все расхохотались — и больше всех Иван Алексеевич.
Он поцеловал Надежде Александровне руку и тут же, с ее позволения рассказал, как однажды он закончил свое письмо к ней игривой фразой: «Целую ваши ручки и штучки-дрючки!»
— Дня через два получаю от Надежды Александровны ответное послание: «Если ручки хоть редко, но целуют мне, то штучки-дрючки уже лет пятьдесят никто не целовал!» Каково?
Все вновь развеселились, и вечер пошел как по маслу, тем более что жена Пантелеймонова принесла хорошую шведскую водку. Надежда Александровна взяла в руки гитару, и за столом воцарился доброжелательный дух.
Бунин, сидевший рядом с Симоновым, поднялся с рюмкой в руке:
— По старой русской традиции первый тост мы должны произнести в честь гостя. Но простит мне дорогой Константин Михайлович, коли этот тост прозвучит в честь народа, к которому все мы принадлежим. Выпьем за великий русский народ — народ-победитель! И еще — за полководческий талант Сталина![85]
…Они явно понравились друг другу и, встречаясь, каждый раз договаривались о новом свидании.
— Давайте завтра пообедаем! — предложил Симонов.
— Где? У нас разные рестораны — по финансовым возможностям.
У Симонова только что вышло во Франции две книги, и поэтому он мог быть щедрым:
— Там, где лучше кормят! — не без бравады провозгласил он.
Иван Алексеевич удивленно поднял брови:
— Однако!.. Тогда, быть может, в «Лаперузе»?
Через два дня согласно договоренности они сидели в сиявшем зеркалами, хрустальными люстрами и прочей роскошью «Лаперузе», расположившемся на набережной Сены. Обедали не спеша, смакуя дорогое вино и разговаривая с глазу на глаз (именно так они оба хотели) с полной откровенностью.
«Не знаю, то ли Бунин почувствовал, что мне хочется подтолкнуть его к возвращению на родину, то ли сам он тогда неотступно думал об этом, во всяком случае, где-то посреди обеда, который начался малосущественным разговором, Бунин вдруг заговорил о своем возвращении, — вспоминал Симонов. — Допускаю, что он ждал, что я сам заговорю на эту тему, и хотел предупредить меня.
Заговорив о возвращении, он сказал, что, конечно, очень хочется поехать…»
Но тут же добавил:
— Но не поздно ли? Я уже стар, из близких друзей остался один Телешов, да и тот, боюсь, как бы не помер, пока приеду. Боюсь почувствовать себя в пустоте… А заводить новых друзей в моем возрасте поздно. Может, и впрямь мне лучше любить вас, Россию — издали?.. А брать советский паспорт и не ехать — это не по мне. Ведь дело не в документах, а в моих чувствах…
— Нет, я не поеду, не поеду на старости лет… это было бы глупо с моей стороны… Нет, я не Куприн, я этого не сделаю. Но вы должны знать, что двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года я, написавший все, что я написал до этого, в том числе «Окаянные дни», я по отношению к России и к тем, кто ею нынче правит, навсегда вложил шпагу в ножны, независимо от того, как я поступаю сейчас, здесь ли я останусь или уеду.
«Вечером приезжал Симонов, приглашать на завтра на его вечер…Понравился своей искренностью, почти детскостью, — записала в дневник Вера Николаевна 11 августа. — Он уже в Верховном Совете, выбран от Смоленщины. Симоновское благополучие меня пугает. Самое большее, станет хорошим беллетристом. Он неверующий…Когда он рассказывал, что он имеет, какие возможности в смысле секретарей, стенографисток, то я думала о наших писателях и старших, и младших. У Зайцева нет машинки, у Зурова — минимума для нормальной жизни, у Яна — возможности поехать, полечить бронхит».
На следующий день — 12 августа, был «большой прием» в доме Бунина. Началось с того, что Симонов в очередной раз пригласил Ивана Алексеевича в ресторан.
— Нет, довольно, — решительно заявил тот. — Наоборот, пора мне вас пригласить к себе. Увы, наш быт теперь таков, что и гостя принять нет возможности.
Симонов попросил:
— А давайте, Иван Алексеевич, все сделаем на коллективных началах: ваша территория, мой провиант…
— Пожалуй, — охотно согласился Бунин.
В те дни в Париже проходила конференция четырех министров союзных держав. Между Парижем и Москвой ежедневно курсировали самолеты. Симонов, расставшись с Буниным, сразу поехал в гостиницу, к советским летчикам, объяснил им суть дела и дал записку в Москву. Они как раз летели в Москву, Бунина читали и рады были помочь. Передали записку домашним Константина Михайловича, те в «Елисеевском» магазине (он был тогда коммерческим, торговал по высоким ценам, но зато без карточек) накупили «сугубо отечественной» снеди — селедку, черный хлеб, калачей, любительской колбасы и прочего. Все это на второй день было доставлено в Париж, а затем — домой Бунину.
Ивана Алексеевича все это растрогало. Он ел колбасу и приговаривал:
— Да, большевистская колбаска хороша!
Гостями Бунина были Тэффи и понравившийся Симонову Адамович, «один из самых умных литературных людей в эмиграции», как он писал о нем. Надежда Александровна вновь пела под гитару, а Симонов читал стихи. Очень душевной была обстановка, вечер прошел как нельзя лучше.
«Адамович подтвердил мне то, что я уже слышал: что Алданов имел и имеет огромное влияние на Бунина, — писал Симонов. — Мне показалось, что Адамович в душе недолюбливал Алданова, но в то же время отдавал ему должное и говорил, что это человек большой моральной силы.
Как я понял из этого разговора, Бунин, решая вопрос о том, ехать или не ехать ему домой, и даже о том, брать или не брать ему советский паспорт, оглядывался на Алданова, боялся его суждений и, уж во всяком случае, считался с ним, с тревогой думая о том, как Алданов отнесется ко всему этому. А Алданов — это можно было заранее сказать — отнесется к идее возвращения Бунина на родину резко отрицательно.
Что остается добавить?
Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении. Мысль о поездке его пугала и соблазняла. Он думал о своем собрании сочинений в Москве; мы много говорили с ним об этом. Он волновался, что у него вышла какая-то неудачная переписка с Гослитиздатом, что Гослитиздат не так его понял, как он хотел, а он, видимо, не так понял Гослитиздат. Возникли взаимные обиды, которые я обещал ему выяснить. Бунин огорчался, что его не так поняли, и очень хотел, чтобы его издали…»[86] — вспоминал Симонов.
— Эх, если бы можно было просто съездить в Москву, — вздыхал Иван Алексеевич. — Поехать посмотреть, да ведь не пустят так вот, чтобы просто поехать.
Воспоминания Симонова — одни из лучших в обширной мемуаристике о Бунине. Ему удалось довольно точно схватить сущность непростого характера, разобраться в сложнейшем клубке событий, которые развернулись вокруг Ивана Алексеевича.
Но, истины ради, надо отметить: не все точно в воспоминаниях Константина Михайловича. По его собственному признанию, записи он сделал «лишь много лет спустя после встреч». Это, видимо, расфокусировало изображение некоторых эпизодов.
Так, не было «забрасывания удочек»: не станет ли Бунин сотрудничать с немцами? Никто не приглашал его участвовать в каких-то «покровительствуемых немцами изданиях». Слишком жил он на отшибе, чтобы привлечь к себе внимание. Да и достаточно хорошо были известны его антипатии к гитлеризму (о чем, как мы помним, он заявлял вслух), чтобы рассчитывать на его сотрудничество. Нет, «приглашений» не было. Об этом, кстати, говорил и Бахрах — свидетель достоверный.
Далее: Симонов утверждает, что все годы войны Бунин «жил безвыездно на юге, на берегу моря, в доме знакомого врача», у которого в подвале был спирт и с которым они отмечали московские салюты.
Автор мемуаров здесь тоже напутал. Читатель уже знает, что владелицей виллы «Жаннет» была англичанка, вдова пастора. И со спиртом тоже было плохо. К огорчению писателя, его в подвале не водилось. Но салюты он действительно отмечал вместе с Бахрахом — маленькой рюмкой крепкого напитка со звездочками (если он был в доме) или стаканом виноградного вина, которое во Франции стоит недорого.