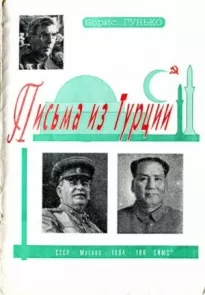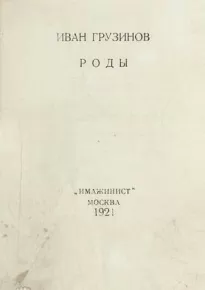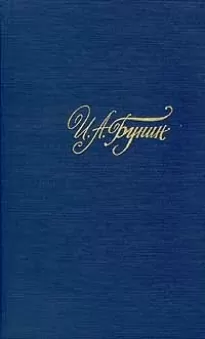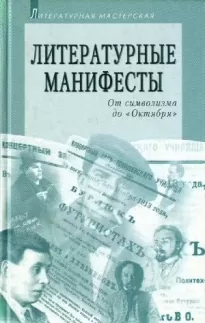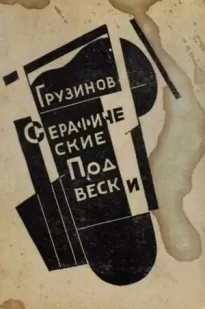Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953
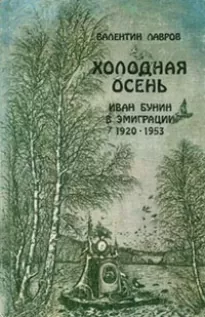
- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Биографии и мемуары / Публицистика
Читать книгу "Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953"
ГЛАВА XIX
В середине мая Бунин вернулся в Грас. Стояли великолепные ясные дни. Южная растительность, густо покрывавшая первобытные грасские холмы, набирала буйную силу. Бунин просыпался рано и уходил в лесные чащи. Снизу, из долины, поднимался от цветочных плантаций синий душистый туман. На душе было светло и празднично. Как никогда, работалось много, с удовольствием.
Возвращался на виллу, когда все ее обитатели были уже на ногах. Галина и Вера Николаевна накрывали в саду завтрак. Обхватив их, Иван Алексеевич оглашал грасские окрестности задорной русской частушкой:
Порой эту же частушку Иван Алексеевич исполнял в другой, более шаловливой редакции. Галина краснела, Вера Николаевна начинала притворно сердитым тоном ему выговаривать:
— Ян, что за песни…
Иван Алексеевич, приплясывая, проходил проходочкой возле нее:
Наезжали гости, и становилось на «Бельведере» еще шумнее.
— Эх, пить да гулять, да других делов не знать, — напевал Иван Алексеевич. — Поесть, поплясать — против нас не сыскать!
Порой он произносил с печальной гордостью:
— Вместе со мной умрет настоящий русский язык — народный, непорченый, с его яркостью, солью, остроумием!
В это лето чаще, чем когда-либо, виделись с Рахманиновым. Он подъезжал на шикарном, слегка пофыркивавшим сизым дымком, американском автомобиле к «Бельведеру», производя во всем провинциальном Грасе переполох и любопытство.
В модном, серого цвета, сшитом у лучшего лондонского портного костюме, красивой шляпе, желтых, с выбитыми узорами на узких носках, ботинках, он выглядел просто потрясающе.
Бунин, наоборот, в выгоревшем от давнишней носки твиновом[26] костюме, под лацканами которого выглядывала синяя ткань, а на самих лацканах и плечах — светло-сиреневая, в парусиновых, изрядно потрепанных ботинках на резиновой подметке, был похож на мелкого чиновника в отставке, приехавшего на летний сезон в Мытищи. Бедность, конечно, не порок, но…
И все же они были удивительно похожи друг на друга, не только внешне, но и характерами, отношением к людям. Это сразу бросалось в глаза.
(После одного из таких визитов, 5 августа того же, 1930 года Вера Николаевна записала в дневнике: «Во время обеда я часто смотрела на него и на Ивана Алексеевича и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи — сравнивая также и их судьбу. Да, похожи, но Иван Алексеевич весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше и черты лица правильнее».)
Они любили друг друга, чувствуя необыкновенную родственность душ. Вот, к примеру, строки из письма Сергея Васильевича к Бунину от 9 апреля 1926 года: «Как мне жалко, право, что Вы… уезжаете из Парижа. Из всех русских людей мне больше всего хотелось увидеть вас! Отвести душу!»
Может, не случайно, Бунин свои «Воспоминания», после «Автобиографической заметки», начал с этюда о С. В. Рахманинове!
Он писал: «При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россия». Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигде не было ни души, — сели на какие то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячей и радостней уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова… Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку:
Годы спустя, когда над Европой уже гремели пушки второй мировой войны, Иван Алексеевич нашел клочок бумаги с собственной записью и перенес ее в дневник 2 мая 1940 года:
— «16-Х-26. Вчера Рахманинов прислал за нами свой удивительный автомобиль, мы обедали у него, и он, между прочим, рассказал об известном музыканте Танееве: был в Москве концерт Дебюсси, и вот, в антракте, один музыкальный критик, по профессии учитель географии, спрашивает его: «Ну, что скажете?» Танеев отвечает, что ему не нравится. И критик ласково треплет его по плечу и говорит: «Ну, что ж, дорогой мой, вы этого просто не понимаете, не можете понять». А Танеев в ответ ему еще ласковее: «Да, да, я не знал до сих пор, что для понимания музыки не нужно быть 30 лет музыкантом, а нужно быть учителем географии».
Расположившись в садике, Рахманинов и Бунин вели долгие беседы. Вспоминали старую Москву, шумные вечера Шаляпина, когда публика подолгу не отпускала великого певца, заставляла его петь еще и еще. Возвращались мыслью к Ялте, Аутке, в которой жил Чехов[27].
— Однажды после концерта ко мне подошел Антон Павлович, — рассказывал Рахманинов, — и заметил:
— Из вас выйдет большой музыкант.
— Почему вы так думаете?
— Я смотрел все время на ваше лицо за роялем.
Зашла речь о пьесах Чехова, которые столько прибавили ему славы. Бунин сказал, что его пьесы ему всегда не нравились.
— И не только мне. Вот Толстой о них отзывался критически. Мне сам Антон Павлович рассказывал, как он у него был в Гаспре. Толстой болел, лежал в постели, но много говорил обо всем, и о Чехове тоже. Когда Антон Павлович стал прощаться, Лев Николаевич задержал его руку и сказал:
— Поцелуйте меня! — и тут же добавил: — А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!
В один из приездов Рахманинова на «Бельведер» они засиделись за воспоминаниями чуть не до рассвета. Да и как тут разойтись, когда Иван Алексеевич рассказывал о Льве Николаевиче, о своем знакомстве с ним!
— Помню этот страшно морозный вечер, когда я подходил к усадьбе в Хамовниках, — говорил Бунин. — Кругом безлюдье, тишина. Лишь вдруг резко и неожиданно за чьим-то палисадом сухо треснет от стужи дерево. И вот в глубине двора красновато засветились окна большого деревянного дома. Мне было тогда 23 года, и меня всего трясло: не столько от лютой погоды, сколько от страха. Шутка ли! Сейчас увижу того, о встрече с которым мечтал с юных лет, о ком первоначально узнал не из его книг, а по разговорам дома. Отец, Алексей Николаевич, встречался с Толстым еще во времена Севастопольской кампании.
…И вот появился
— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму?.. Расскажите о себе. Холосты? Женаты? — Они сели возле фаянсовой лампы, освещавшей только серую материю его блузы, да крупную руку, к которой хотелось припасть с восторженной любовью.
Узнав, что Иван Алексеевич
— Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни… — И еще добавил: — Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет… Счастья нет в жизни, есть только зарницы его — цените их, живите ими!
…Бунин уехал в Полтаву, писал оттуда Толстому, получил от него несколько ласковых писем. Лев Николаевич наставлял: не стоит так уже стараться, чтобы стать толстовцем.
— Но я не унимался, — вспоминал Бунин. — То, чтобы опроститься, набивал обручи, потом — того хлестче, открыл лавочку «Книжный магазин Бунина». В нем хорошо пахло новыми тесовыми полками, на которых лежали брошюрки толстовского издательства «Посредник», организованного в Москве в 1884 году.
Вдребезги запутав счета, хотя они были совсем малы, я переехал на жительство в Москву, но и там я пытался уверить себя, что я брат тех, кто постоянно торчит в помещении «Посредника» и наставляет друг друга относительно «очищения от скверны» и «приобщения к доброй жизни». Ну ладно, брехать — это не пахать!
— Мне понравились ваши воспоминания о Толстом, — заметил Рахманинов. — Продолжение будет? [28]
— Человек предполагает, а бог располагает, — философски изрек Иван Алексеевич. — Но я давно думаю над такой книгой, хотя вряд ли она уместится в мемуарный жанр…
(Такая книга вышла в 1937 году — «Освобождение Толстого», одна из лучших о великом писателе.)
— А у меня со Львом Николаевичем связаны не очень легкие воспоминания, — улыбнулся Рахманинов. — Мне долгие годы казалось даже, что он обошелся со мной излишне круто.
И он рассказал, как будучи совсем молодым, в 1895 году написал крупную работу — Первую симфонию, опус 13. Она, по замыслу автора, была преемственно связана с симфоническими драмами Чайковского, хотя во многом была смелой и новой.
— Я на симфонию возлагал большие надежды, — говорил Сергей Васильевич. — Но ее первое исполнение Глазуновым 15 марта 1897 года было неудачным, критики ругали ее почем зря. Я тяжело перенес этот провал. Около трех лет ничего не сочинял, потерял в себя веру.
Как раз в это трудное для себя время я приехал к Толстому с Шаляпиным, — я тогда ему аккомпанировал. Он пел Грига, затем мой романс «Судьба» на скверные слова Апухтина.
Шаляпин пел изумительно. Присутствовавшие хлопали ему. Но Лев Николаевич нахмурился. Я понял, что ему не понравилось, и старался уклониться от разговора с ним.
Но он все-таки разыскал меня и сказал, что слова прескверные, и упрекнул за повторяющийся лейтмотив.
Правда, в конце вечера Лев Николаевич еще раз подошел ко мне и ласково сказал:
— Вы не обижайтесь на меня. Я старик, а вы — молодой человек. Надо много работать. Я вот ежедневно работаю от семи утра до двенадцати часов дня. Иначе нельзя. И не думайте, что мне всегда это приятно, иногда очень не нравится, а надо…