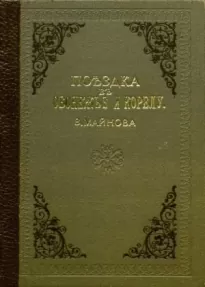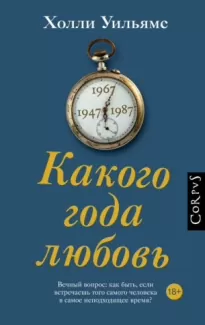Афанасий Фет
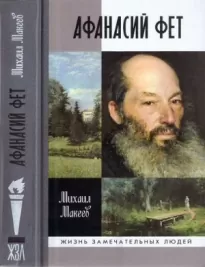
- Автор: Михаил Макеев
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2020
Читать книгу "Афанасий Фет"
В общем, Германия Фету не просто понравилась — он во многом увидел в ней доведение до высшего воплощения того идеала общественной жизни и отношений человека к природе и окружающему миру в целом, который недавно высоко оценил в Эстляндии. Фет замечал и комические стороны немецкого характера и с удовольствием подшучивал над ними: «Перед вами современный немецкий идеал, когда немец, с сияющим лицом, объявляет, что в их курфиршестве три туннеля, что Геббель вышел двадцатым изданием или что затевается процессия, в которой все цехи будут на повозках отправлять свои занятия, то есть портные шить, сапожники тачать, типографщики печатать и т. д.». Но одновременно этот идеал, выраженный в гётевской поэме «Герман и Доротея», вызывал у него огромную симпатию: «Более или менее гористые части Германии, покрытые виноградниками, пересечённые каменными заборами, калитками у спусков по каменным плитам, с населением, носящим бессознательно и сознательно во глубине души идеал домовитости (Hauslichkeit) и дышащим, чем ниже слой общества, более и более той непосредственной идиллией, которая составляет основу германского характера»292. Навсегда полюбив этот идеал, Фет отправился в Париж — знакомиться с французской жизнью.
Франция, куда «прогрессивные» образованные русские люди ездили, как в паломничество к Святым местам, Фету не понравилась с самого начала. Уже местность между Страсбургом и Парижем, пересечённая им на очередном поезде, выглядела для него как «однообразная равнина, по которой все дороги, канавы и межи засажены высокими тополями, придающими стране вид шахматной доски»293. Природа Франции и её сельское хозяйство то ли не заинтересовали путешественника, то ли не удовлетворили; во всяком случае, в своих путевых заметках он практически ничего об этом не написал. Всю Францию представил у Фета Париж, в котором он поселился на улице Гельдер в одноимённом отеле, причём «старался устроиться по возможности дёшево и действительно достиг в этом отношении некоторого совершенства, занявши... в пятом этаже две весьма чистых, даже щеголеватых комнаты за 40 франков (10 р.) в месяц. Правда, штукатурка потолков представляла крутой перелом, скашиваясь по направлению к окнам и сообщая таким образом квартире значение мансарды»294.
Из этого поэтического жилища Фет отправлялся на осмотр парижских достопримечательностей. Первое и постоянное впечатление от французского образа жизни он выразил в самом начале парижской части путевых очерков: «По широкой улице с новыми или обновлёнными домами в шесть-семь этажей, с превосходно содержимым шоссе посредине и широкими асфальтовыми тротуарами по обеим сторонам, не идёт и едет, а бежит и скачет несметная толпа». Париж открылся ему как царство толпы, потребляющей «зрелища, без которых француз жить не может», и жаждущей новизны, придумывающей и продающей всё новые и новые развлечения: «Главная цель парижанина — приобресть как можно скорей и более денег, а первейшая задача — остановить и приманить общее внимание». И ещё более афористично и строго: «Много говорено о лихорадочной страсти парижан, с одной стороны, к зрелищам всякого рода (хотя бы того, что представляет споткнувшаяся и запутавшаяся в постромках лошадь, около которой немедленно образуется непроницаемая толпа), а с другой — к деньгам»295. Жизнь во французской столице велась напоказ: «Летом парижане чуть не живут на бульварах. Толпа и суета страшная, но беспорядку никакого». Русскому гостю бросалось в глаза обилие магазинов с блестящими витринами и кофеен, в которых «все столики в известные часы заняты и посетители истинно прохлаждаются, то есть сидят за рюмкой чуть не час, любуясь на проходящих дам-камелий, разряженных в шёлк и бархат». Под чахлыми деревьями на Елисейских Полях чего только не было: «Подвижные бильярды, на которых разыгрываются всевозможные вещи, таковые ж рулетки, вертящиеся качели с газовым освещением, деревянные коньки и даже корабли под парусами и флагами, подвешенные на брёвнах, от которых этот воздушный флот получает круговращательное движение»296.
Путешественник не избежал соблазна приобщиться к диковинкам и зрелищам подобного рода: осмотрел знаменитый Дворец индустрии, уже пустовавший после закончившейся Всемирной выставки («архитектура его ничтожна») и огромный Гипподром с жонглёрами и наездницами «на разных фантастических колесницах»; побывал в Булонском лесу, по его мнению, громкого имени леса не заслуживающем, посетил там театр марионеток, «на балконе которого весьма приличный на взгляд господин свищет и пищит голосом будто бы кукол, зазывающих посетителей, и театр магии, то есть просто фокусов, и ещё что-то». Не обошёл он вниманием и предшественника современного кабаре «Мулен Руж» — популярный в XIX веке кафешантан «Баль мабиль». Всё здесь блестело или таинственно мерцало, гуляющие демонстрировали наряды и улыбки; залитые газовым светом аллеи, клумбы, беседки из подстриженных деревьев, павильончики, «воздушные кофейни», рулетки, бильярды, тиры создавали вид «волшебного парка, в котором фея даёт бал»; «но только парижский старожил знает, сколько тайной, незримой нищеты скрыто под весёлыми улыбками красавиц в кокетливых шляпках». Увидел Фет и то, что обычно привлекало в это волшебное место туристов со всей Европы, — разнузданные танцы: «Зато кадриль, la contredanse, танцуемый здесь только в две пары, — совершенное зеркало парижских нравов. Под звуки его ритурнеля танцоры перерождаются и предаются самым отчаянно-развязным телодвижениям. Мужчины каждое па кончают скачком, а дамы так и расстилаются по земле. Их пышные кринолины волнуются, как море-океан. Ловкие танцорки составляют отдельные кадрили, вокруг которых толпа»297.
Его приговор «парижской жизни» был следующим: «...От улицы Риволи до Гипподрома, от последнего винтика в экипаже до первых бриллиантовых серёг за стеклом магазина, от художественной выставки до Большой Оперы — всё гладко, ловко, блистательно (bien fait), а целое прозаично, мишурно и бессонно, как нарядный венский пирог, простоявший месяц за окном кондитерской»298.
За этим вердиктом стояла критика либеральных идей, с которыми он уже вступал в полемику в редакции «Современника», конечно, отчётливо осознававшихся им как «французские». Они в его глазах выглядели поверхностными, непрочными, «бессонными», поскольку, как «всё французское», имели целью не разумную организацию жизни, а внешнюю яркость и привлекательность. За ними Фет не увидел ничего, кроме пустоты и той специфической торговли «воздухом», мастерами которой показались ему французы. Парижские улицы, толпы, развлечения представлялись ему воплощением республиканского образа правления, сохранившегося и в тогдашней империи, доведённой до «плачевного состояния, в котором всякая власть во Франции находится со времени революции, будучи вынуждена заботиться не о благе, а лишь об угождении вкусам толпы. Последнюю задачу Наполеон III в то время понимал и исполнял во всём объёме»299. Французский идеал человека, вызвавший глубокую антипатию русского поэта, — «un rentier[23], то есть владетель капитала, позволяющего жить процентами и ровно ничего не делать, ходить по театрам или сидеть под навесом кофейни, с журналом в руке, над стаканом отвратительной, зеленоватой микстуры из полынной настойки (absinthe) и холодной воды»300.
Даже более серьёзные стороны парижской жизни не изменили его мнение. Архитектура показалась не очень значительной: «Собственно как памятники вполне интересны только Лувр, Тюльери (Тюильри. — М. М.) да ещё два-три здания». Собор Парижской Богоматери произвёл, кажется, меньшее впечатление, чем собор в Страсбурге: «Пономарь таки заставил меня взглянуть на чудовищный, по его мнению и по мнению Виктора Гюго, колокол, но русского не удивишь; колокол не превосходит величиной любого соборного в губернском или, пожалуй, в уездном городе». На кладбище Пер-Лашез «малые и большие камни толпятся и жмутся друг к другу с мещанской скупостью». Театральные представления полны ложного пафоса, лучше всего выглядят костюмы и декорации, как и везде, больше всего внимания уделяется поверхности, а не глубине, «но на этих внешностях и останавливается требовательность публики». Театр только подтвердил уверенность Фета, что подлинным владыкой Франции является толпа, которой подчинились не только власть и «промышленность», но и искусство: никто не ищет совершенства и истины — наоборот, «масса безвкусничает, а писатели прислушиваются к её послеобеденным причудам». Нашумевшая пьеса Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» «всякого человека не поражает, а оглушает невероятным безобразием»301. Прекрасные оперы Мейербера исполняются из рук вон плохо, зато «ничтожный» Верди в большом почёте. Версаль с его постриженными деревьями показался настоящим апофеозом этой поверхностности, способности французов превратить всё, даже живую природу, в декорации какого-то пошлого спектакля.
Чуть ли не единственным светлым пятном в этой картине предсказуемо стал Дувр. Правда, и он, в отличие от немецких музеев, показался Фету беспорядочным, как будто незаконченным, но содержимое его залов не вызывало никаких сомнений — оно прекрасно и бессмертно. В нём Фет искал зримое воплощение собственного идеала искусства и нашёл его в избытке. Даже работы французского художника Жана-Батиста Грёза вызвали его восторг от пробуждения «чуткого детского чувства». Казнив презрением модного провозвестника новых путей искусства Жерико, Фет надолго задержался у небольшой картины испанца Мурильо, которое он называет «Мальчик, казнящий перед распахнутой грудью, на внутренней стороне рубашки, насекомое, получившее у Гоголя прозвание зверя». Эта картина позволяет автору заметок высказать мысль, что «искусство есть высшая, нелицемерная правда, беспристрастнейший суд, перед лицом которого нет предметов грязных или низких. Оно осуждает только преднамеренность, влагающую в воспроизводимый предмет свою грязь, свои цинические наросты. Искусство в этом отношении настолько выше всякой земной мудрости, насколько любовь выше знания. Мудрость судит факты, искусство всецельно угадывает родственную красоту»302.
Вне конкуренции для Фета древнегреческое искусство: «Дискобол», «Вепрь», статуя Демосфена поражают его верностью природе и одновременно идеалу красоты и гармонии. Венера Милосская вдохновляет на восторженное описание на нескольких страницах: «Из одежд, спустившихся до бёдер прелестнейшим изгибом, выцветает нежно, молодой, холодной кожей сдержанное тело богини. <...> А эта, несколько приподнятая, полуоборотом, влево смотрящая голова? Вблизи, снизу вверх, кажется, будто несколько закинутые, слегка вьющиеся волосы собраны торопливо в узел. Но отойдите несколько по галерее, чтобы можно было видеть пробор, и убедитесь, что его расчёсывали Грации. Только они умеют так скромно кокетничать. О красоте лица говорить нечего. <...> Ни на чём глаз не отыщет тени преднамеренности; всё, что вам невольно поёт мрамор, говорит богиня, а не художник. Только такое искусство чисто и свято, всё остальное его профанация»303. Из этого описания как бы вырастает антологическое стихотворение «Венера Милосская»:
И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветёт божественное тело
Неувядающей красой.
Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось.
Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.