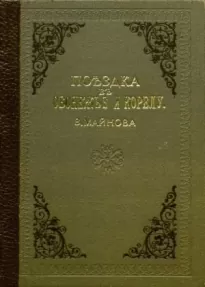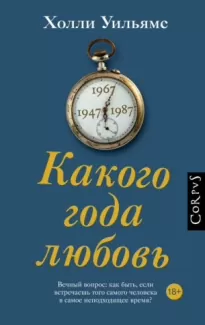Афанасий Фет
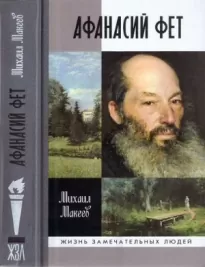
- Автор: Михаил Макеев
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2020
Читать книгу "Афанасий Фет"
РАЗРУШЕНИЕ КУМИРА
Если дружба со Страховым продлилась без больших потрясений и кризисов до смерти поэта, то отношения с Толстым в последний год степановской жизни и первые годы воробьёвской подверглись серьёзным испытаниям. Начавшись в конце 1850-х годов с совместной борьбы против Чернышевского и с планов издавать эстетический журнал, они были практически всегда безоблачными, чему способствовали сходство темпераментов, изолированное положение в литературе и свойственные обоим «своенравие», упрямство, нежелание следовать литературной и идейной моде, готовность бросить писание и заняться чем-то другим. Толстой высоко ставил мнение Фета о своих произведениях, очень любил его стихи и оставался верен этой любви до конца жизни. Он мог высказывать критические замечания, которые с благодарностью принимались поэтом, для которого был, несомненно, одним из самых важных «арбитров», чьи советы он выслушивал радостно, совсем не так, как от Тургенева и «весёлого общества» Дружинина. Фет совершенно искренне называл Толстого величайшим русским прозаиком, до конца своей жизни считал повесть «Казаки» лучшим произведением писателя, а одного из её героев Лукашку — лучшим мужским персонажем в русской литературе. Он, несомненно, очень тонко чувствовал талант Толстого, его специфику и прощал ему умствования («тенденцию»), которые не прощал Тургеневу, понимая, что без этого Толстой-художник невозможен, его писательская энергия не может не подпитываться энергией мыслителя. В общем, он видел в Толстом тот редчайший, почти невозможный сплав мысли, «тенденции» и художества, тогда как в Тургеневе видел только, что «тенденция» его обедняет и ухудшает.
Они оба в определённые моменты исповедовали приоритет практической жизни над литературной, оба плохо относились к нигилистам с их идеалами «французской революции». Как и Фет, Толстой мог бравировать своим политическим консерватизмом и, подобно ему, долгое время не испытывал потребности в религии, был атеистом или, скорее, агностиком. Аналогичное фетовскому стремление к заполнению духовного вакуума привело его к увлечению философией Шопенгауэра. Будучи по российским меркам соседями (к тому же стремительно росшие железнодорожные линии вскоре сократили расстояние между их имениями), они периодически гостили друг у друга (чаще Фет в Ясной Поляне), активно переписывались (сохранилось более трёхсот их писем, адресованных друг другу), дружили семьями, имели общих друзей и знакомых, любили Ивана Петровича Борисова, считали едва ли не идеалом Николая Николаевича Толстого. Они оказывали друг другу и практическую помощь: находили продавцов разных сельскохозяйственных принадлежностей и покупателей продуктов. Каждый (чаще Фет), бывая в Москве, покупал для приятеля нужные в хозяйстве вещи.
При всём этом между ними существовало глубокое различие, которое делало любое сходство их взглядов и увлечений поверхностным и случайным. Если Фет строго отделял практическую жизнь от сферы высших идеалов и ценностей, то Толстой всю жизнь искал именно единства жизни, искал смысл и оправдание жизни в её целостности, требовал универсальной истины. Даже если они сходились, например, в готовности признавать занятие сельским хозяйством важнее литературного творчества и политики, то Толстой видел в нём не просто деятельность, которой разумнее всего в этот момент заняться, как Фет, но высший смысл, универсальную цель человеческого бытия. Именно поэтому хозяйствование как род занятий всегда удовлетворяло Фета и периодически не удовлетворяло Толстого. Но до поры это различие не выходило наружу и совпадение взглядов воспринималось как проявление глубокой близости.
Так продолжалось долго — почти 20 лет (благо друзья, живя заботами своих имений, не надоедали друг другу), как минимум до середины 1870-х годов. Серьёзные расхождения начались тогда, когда поиск Толстым универсального смысла и оправдания человеческого, в том числе и своего собственного, существования привёл его в сферу «неземную». С весны 1876 года великого писателя начинают серьёзно занимать религиозные вопросы. С этого времени Толстой явно всё меньше хотел говорить с Фетом об общественно-политических вопросах и в ответных письмах практически игнорировал выпады своего корреспондента против нигилистов, с сетованиями об упадке всего и вся коротко соглашался, но без заинтересованности.
Фет, видимо, встревоженный тем, что теряет связь с собеседником, решился высказаться о Боге и вере. В письме от 14 апреля 1877 года он начал длинное рассуждение словами: «Сейчас выезжаю, но не могу воздержаться написать, не смейтесь, о сущности Божества». И хотя в результате его путаного рассуждения выходило, что Бога существовать не может («Субъективная беспричинность и объективная конечная причина бесконечной Kausalkette[37]. Как же может Он при своей беспричинности и неподвижности пускаться передёргивать отдельные звенья вечной цепи причинности?»533), Толстой в ответном письме от 21 апреля откликнулся почти радостно, как человек, наконец-то дождавшийся от давнего собеседника дельной мысли: «Вы не поверите, как меня радует то... как Вы говорите, “о сущности божества”. Я со всем согласен и многое хотел бы сказать, но в письме нельзя и некогда. Вы в первый раз говорите мне о божестве — Боге. А я давно уж, не переставая, думаю об этой главной задаче. И не говорите, что нельзя думать. Не только можно, но должно. Во все века лучшие — т. е. настоящие люди думали об этом. И если мы не можем так же, как они, думать об этом, то мы обязаны найти, как»534, — и поинтересовался, читал ли тот «Мысли» Паскаля.
Тем не менее прежний интерес Толстого Фету восстановить не удалось. В письмах он восторгался «Анной Карениной», сообщал о хозяйственных заботах, в частности в подробностях рассказывал о покупке Воробьёвки, ругал современную общественную мысль и лишь косвенно касался затронутой в письме темы причинности и свободы воли, то есть писал о том, что всё меньше интересовало Толстого. Тот, наконец, в несохранившемся письме уподобил Фета евангельской Марфе, которая получила от Христа знаменитый упрёк: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё» (Лк. 10:41—42). Фет отвечал шутливо: «Деревенская, домашняя жизнь приучила меня быть Марфой, рвусь из грубой златопоклонной Москвы домой ежедневно — и всё не могу кончить марфиться»535. Толстого такой ответ не удовлетворил, и он начал терять интерес к самой переписке — письма его становились всё более «краткими», как жаловался сам их адресат.
Фет в дальнейшем старался уклоняться от дискуссий о Боге и вере, понимая, что в этих вопросах они сойтись не могут, и продолжал делиться разными текущими заботами, надеясь, что по какому-то глубинному сродству, не зависящему от мировоззренческих разногласий, им просто интересно говорить друг с другом, обмениваться «опытом» (его любимое слово). Эта надежда была заведомо тщетной: быстро превращавшийся в проповедника, считающего своим долгом провозглашать ту правду, на пороге которой он стоял, устав от фетовских сообщений, которые он считал пустой тратой слов, Толстой, наконец, счёл нужным высказать Фету «горькую правду». «Но хотя и люблю Вас таким, какой Вы есть, всегда сержусь на Вас за то, что Марфа печётся о мнозем, тогда как единое есть на потребу. И у Вас это единое очень сильно, но как-то Вы им брезгаете — а всё больше бил[л]иард устанавливаете. Не думайте, чтобы я разумел стихи. Хотя я их и жду, но не о них речь, они придут и под бил[л]иардом, а о таком миросозерцании, при котором бы не надо было сердиться на глупость людскую. Кабы нас с Вами истолочь в одной ступе и слепить потом пару людей, была бы славная пара. А то у Вас так много привязанности к житейскому, что если как-нибудь оборвётся это житейское, Вам будет плохо, а у меня такое к нему равнодушие, что нет интереса к жизни; и я тяжёл для других одним вечным переливанием из пустого в порожнее»536, — написал он 6 апреля 1878 года. Фет — возможно, действительно не поняв, что его корреспондент имеет в виду не просто какой-то частный вид хозяйственной «суеты» (как раз в это время Фет был занят обустройством нового дома), но «мирское» вообще, — ответил 16 апреля: «Если я действительно Марфа, потому что хлопотал и хлопотал и хлопочу ещё много, то, увы! далеко не потому, что так высоко ценю жизнь с её благами земными. <...> У меня есть потребность порядка. Дайте мне щей с говядиной... но чтобы это было хорошо»537.
После гощения Фета в Ясной Поляне в конце мая 1878 года стало невозможно уклоняться от спора о том, что Толстой считал единственно важным для человека, в том числе и для себя. «Мы оба идеалисты. Но Вы идеалист до конца, через все области, т. е. идеальную и реальную, а я только до предела облаков, а ниже я требую опыта. Выше для меня всё возможно, Полифем, волшебная лампа, Дантов ад — ну что хотите, не только возможно, но необходимо, а здесь в дождь на волах нельзя работать, невзирая ни на какую философию»538, — писал Фет по горячим следам обмена мнениями, в последней попытке избежать споров очень точно обозначая различие между ними и предлагая с этим различием примириться. Толстого, воспринимавшего это предложение только как малодушное уклонение от ответов, это удовлетворить, конечно, не могло. Наконец Фет ответил, сразу попытавшись обезопасить себя умалением: «...В высшей степени интересно хоть одним глазком взглянуть, как ходят моральные колёса такой замечательной машины, как Лев Толстой. Надо быть идиотом, чтобы затевать, заводить такие колёса у себя»539.
В духе и отчасти даже в терминах Шопенгауэра, которого Фет как раз тогда переводил, он повторял мысль, что в мире, в котором царят законы причинности, нет места для Бога; а если бы он был, к нему всё равно не было бы доступа человеку (существу пространственному и временному нет доступа к тому, что вне времени и пространства), и что те же законы отвергают возможность вмешательства Бога в мир. В лучшем случае ему осталась бы роль первопричины всего, что лишает смысла какое-либо приписывание Богу, например облика, желания и прочего и исключает возможность общения с ним: «Какое же у меня представление личного (очевидно) божества? Никакого. Все мною присочиняемые атрибуты благости, правосудия и т. д. разрушаются при малейшем приложении к явлениям мира...»540
Отрицая возможность существования Бога для разума («...по логике молиться об чём-либо значит просить Бога перестать существовать, изменив свои же неизменные, вечные законы ради Иисуса Навина[38]»), Фет был готов, идя навстречу собеседнику, признать вопрос о вере относящимся к интуиции — чувству, имеющему свою глубокую правду (это соответствовало и его собственным представлениям, и учению Шопенгауэра): «Я понимаю, дорогой граф, что Вам подобный человек не разом отыскал в себе то религиозное чувство, которое Вы питаете. Это новое подтверждение слов великого старца Шопенгауэра. Всякое открытие интуитивно. Это могло быть — и я понимаю, насколько Вам отрадно такое открытие... Но я сильно убеждён, что далее этого Вы пойти по природе не можете, то есть объяснить, разложить, анализировать это для других». Найденная Толстым истина, по Фету, неизбежно останется его истиной и не может быть истиной для других, поскольку из-за её несоответствия логике ей нельзя придать форму всеобщности. Фетовская интуиция Бога не находит и религиозное чувство отторгает: «Мы стоим с Вами в разных областях. Вы нашли и говорите с Августином credo quia absurdum[39]... Я же не нашёл, потому, что мне это не дано. Вы смотрите на меня с сожалением, а я на Вас с завистью и изумлением»541. Завершает письмо Фет сообщениями о здоровье, игре на биллиарде, раскладывании пасьянса, чтении новой (плохой) комедии Аверкиева — видимо, чтобы не заканчивать на слишком высокой ноте, а также чтобы убедиться, что простая информация о его житье-бытье по-прежнему интересна Толстому.