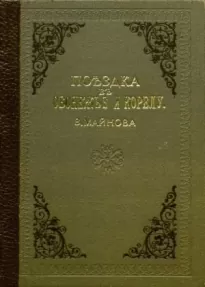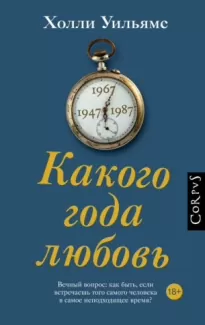Афанасий Фет
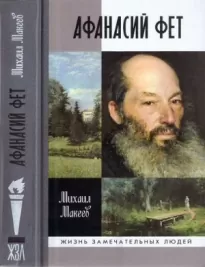
- Автор: Михаил Макеев
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2020
Читать книгу "Афанасий Фет"
КАМЕРГЕР
В середине января 1888 года вышел третий выпуск «Вечерних огней». Подготовлен он был опять при активном участии Владимира Соловьёва, проведшего предшествующее лето в Воробьёвке, помогая Фету в редактировании перевода «Энеиды». Присоединившийся к ним в июле Страхов вступил с молодым коллегой в философский спор, в котором Фет оставался преимущественно наблюдателем. Спорили и о стихах Фета, и Страхов и в этом случае оказался более строгим судьёй, чем Соловьёв. В результате совместной работы сборник был составлен из стихотворений, написанных преимущественно после выхода предыдущего. Несколько стихотворений было уже напечатано в журналах, но большинство впервые увидело свет именно здесь. Шесть произведений — те, которые были «отбракованы» Тургеневым и остальным «ареопагом» и не попали в злосчастное собрание 1856 года, — были перепечатаны из сборника 1850 года с исправлениями и иногда сильными сокращениями (как в случае с «Соловьём и розой»). Таким образом, и здесь подзаголовок «Выпуск третий неизданных стихотворений А. Фета» был неточен, хотя и больше соответствовал действительности, чем в случае первого выпуска.
Отправившись, как обычно, осенью в Москву, Фет приступил к хлопотам по изданию книжки — и столкнулся с неожиданными препятствиями. Один из «отцов» выпуска Владимир Соловьёв не без доли злорадства писал Страхову 6 декабря 1887-го: «Все мы под цензурой ходим! Вот и Афанасий Афанасьевич попался. Третий выпуск “Вечерних огней” задержали. Через три недели Афанасий Афанасьевич поехал в цензурный комитет; там ему показывают фразу в предисловии: “последние годы я перестал печатать свои стихи и в ‘Русском вестнике’ по несогласию с редакцией в эстетических взглядах”. Потребовали зачеркнуть эту фразу как бросающую тень на память Каткова»581. (Это было особенно комично на фоне постоянных утверждений Фета о практическом отсутствии в России цензуры, когда-то вызвавших резкие замечания Тургенева и едва не приведших к серьёзной ссоре с ним). Требуемая правка была внесена, и тонкий сборник увидел свет.
Книга состояла из сорока пяти стихотворений, которые не были разделены на циклы и разделы, а просто пронумерованы и к тому же датированы, причём датировки определяют близкий к хронологическому порядок расположения текстов (ранние стихотворения выделены в отдельную группу). По сравнению с предыдущими выпусками «Вечерних огней» этот получился необычно оптимистичным — возможно, отражая новое настроение Фета, ощущавшего свою поэтическую победу. Стихам предпослано прозаическое вступление, в котором Фет, выразив благодарность разнообразным «соавторам», участвовавшим в отборе и редактировании его стихотворений, и объясняет смысл и задачи своей поэзии, ставшие причиной прохладного или даже враждебного отношения большой части публики к его творчеству в прошедшие годы: «Быть писателем, хотя бы и лирическим поэтом, по понятию этих людей, значило быть скорбным поэтом... Понятно, до какой степени им казались наши стихи не только пустыми, но и возмутительными своей невозмутимостью и прискорбным отсутствием гражданской скорби. Но, справедливый читатель, вникните же и в наше положение. Мы, если припомните, постоянно искали в поэзии единственного убежища от всяческих житейских скорбей, в том числе и гражданских»582.
Тема скорби развивается в идущем под первым номером написанном в мае 1887 года программном стихотворении «Муза», начинающемся с отказа поэта «проклинать, рыдая и стеня, / Бичей подыскивать к закону». «Я к наслаждению высокому зову / И к человеческому счастью», — говорит лирический герой о предназначении своей поэзии. Однако эти «наслаждение» и «человеческое счастье» не есть проявления гедонизма и отсутствия сочувствия к страданию. Как во вступлении Фет не отрицает необходимость гражданской позиции и внимания к общественным проблемам, но отрицает их место в поэзии, так и в «Музе» не утверждает, что объектом поэзии должны быть исключительно веселье и гедонизм. Радость не противопоставляется страданию, но является результатом его преображения в красоту; это страдание, «очищенное» красотой:
Страдать! Страдают все, страдает тёмный зверь
Без упованья, без сознанья;
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданья.
Страдание, очищенное красотой, ведёт не к бунту, который происходит, когда поэзия стремится разбередить раны, а к исцелению:
На землю сносят эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы к борьбе,
А исцеление от муки.
Страдание теперь не является преддверием желанного небытия, как в стихотворении «Ты отстрадала, я ещё страдаю...», но преобразуется в красоту, приносящую подлинную радость и счастье, а не блаженную кратковременную иллюзию, как в стихотворении «Сияла ночь...». В стихотворении «Хоть нельзя говорить, хоть и взор мой поник...», датированном 3 августа 1887 года, говорится о «горькой сладости»:
Если ночь унесла много грёз, много слёз,
Окружусь я тогда горькой сладостью роз...
В стихотворении «А. Л. Б[ржеск]ой» видим такую же близость страдания и блаженства:
Ведь это прах святой затихшего страданья!
Ведь это милые почившие сердца!
Ведь это страстные, блаженные рыданья!
Ведь это тернии колючего венца!
Страдание становится сладким благодаря способности поэзии «отрывать» человека от земли. Ещё один сквозной образ в сборнике — крылья и полёт:
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И тёмный бред души, и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орёл,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах[43].
Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю
В томленьях крайнего усилья
И верю сердцем, что растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья[44].
Вот и думаю: встретиться нам на земле
Далеко так, пожалуй, и низко,
А вот здесь-то, у крыш, в набегающей мгле,
Так привольно, так радостно-близко![45]
Мотив свидания не на небесах, а в воздухе преобразует и сам образ Марии Лазич (впрочем, возможно, это уже не она, а собирательный образ возлюбленной), чья смерть превращает её не во владычицу желанного небытия, в котором она его ждёт, но в источник столь же желанных страданий. Так, в стихотворении «Долго снились мне вопли рыданий твоих...» (1886, 2 апреля) лирическому герою снится «радостный миг», в котором он выступил как «несчастный палач». Радость и горечь, слитые воедино, и есть то наследство, которое он получил и сохранил:
Чуть в глазах я заметил две капельки слёз;
Эти искры в глазах и холодную дрожь
Я в бессонные ночи навек перенёс.
В замечательном стихотворении «Нет, я не изменил. До старости глубокой...» (1887, 2 февраля) таким же наследством становится «старый яд цепей, отрадный и жестокий», «горящий в крови» и дающий силы творить: «И, содрогаясь, я пою». В стихотворении «Светил нам день, будя огонь в крови...» (1887, 9 июня) скорбь об умершей возлюбленной, о несбывшемся счастье, преображаясь красотой, становится утешением, исцелением:
Твоя душа, красы твоей звезда,
Передо мной, умчавшись, загорится.
И в извлечённом из небытия и сокращённом стихотворении «Соловей и роза», фактически завершающем сборник (за ним следуют только два стихотворения, написанные когда-то на смерть Боткина и Дружинина), страдание становится неотъемлемой принадлежностью любви:
Ты поёшь, когда дремлю я,
Я цвету, когда ты спишь;
Я горю без поцелуя,
Без ответа ты грустишь.
Но ни грусти, ни мученья
Ты обманом не зови:
Где же песни без стремленья?
Где же юность без любви?
Любовь и страдание оказываются только средством, позволяющим открыть красоту мира, в котором они — лишь часть, о чём сказано в поразительном стихотворении «В вечер такой золотистый и ясный...» (1886, январь):
В этом дыханья весны всепобедной
Не поминай мне, о друг мой прекрасный,
Ты о любви нашей робкой и бедной
Что же тут мы или счастие наше,
Как и помыслить о нём не стыдиться?
Очутившись в нетленном сиянии неба и моря, конечно, уже не стоит ни жалеть, ни даже думать о простой, слишком человеческой тленной любви. В стихотворении «Благовонная ночь, благодатная ночь...» (1887, 28 апреля) открытость человека красоте мира и открытость красоты мира человеку не просто преображает страдания («раздраженье недужной души»), но заставляет забыть о них, став частью безмолвного концерта земли и неба, звёзд и сада, месяца и родника:
Словно всё и горит, и звенит заодно,
Чтоб мечте невозможной помочь;
Словно, дрогнув слегка, распахнётся окно
Поглядеть в серебристую ночь.
Третий выпуск «Вечерних огней» наполнен настоящими шедеврами, среди которых стихотворение «Я тебе ничего не скажу...» (1885, 2 сентября) с его дерзким образом «цветущего сердца»:
Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдёт,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветёт.
Три послания августейшим особам не разрушают общего впечатления огромной поэтической энергии, удивительной в старом поэте.
На сей раз отзывов в прессе было больше. В номере «Нового времени» от 29 января 1888 года откликнулся — снова восторженно — Буренин, как будто ставший присяжным рецензентом Фета. Наконец-то выступил с хвалебной статьёй в четвёртом номере «Русского вестника» Голенищев-Кутузов, увидевший в лирике своего кумира и учителя едва ли не предел поэтического совершенства. Возбуждённые Бурениным, откликнулись голоса из притихшего враждебного либерального лагеря. В газете «День» явно радикально настроенный критик К. П. Медведский, как будто продолжая традиции Писарева и Минаева, назвал Фета «отжившим», «жалким поэтиком», в то время как дружественный Буренин настаивал, что в сборнике нельзя увидеть «ни малейшего следа ослабления таланта, утомленья вдохновения». Мнение последнего оказалось весомее. Именно третий выпуск «Вечерних огней» заявил о присутствии в современной поэзии Фета, находящегося едва ли не в расцвете таланта и вдохновения, созвучного времени.
Круг читателей и поклонников стихов Фета неуклонно расширялся. Расширялся и дружеский круг. Прекращение переписки с Толстым (последнее письмо ему Фет написал 7 июля 1884 года и не получил ответа, на который, впрочем, не надеялся) и охлаждение их отношений продолжали ранить поэта. Впрочем, это не мешало ему всё резче нападать на учение своего литературного кумира, которое в письмах друзьям он прямо называл «околесицей». Их встречи стали редкими, превратившись в своего рода ритуал: каждый год, уезжая из Воробьёвки в Москву, чета Фетов проводила день-два в Ясной Поляне. Отсутствие общения с Толстым отчасти компенсировалось тёплыми отношениями с его супругой. Примерно с начала 1887 года переписка с ней, и ранее существовавшая, стала достаточно интенсивной. От неё Фет узнавал новости о жизни в Ясной Поляне и в московском особняке в Хамовниках, через неё же передавал приветы и получал ответные. Софья Андреевна относилась к взглядам Фета терпимо, и поэт мог писать ей о своём расхождении с её мужем совершенно откровенно, как в письме от 9 апреля 1886 года: «Конечно, Вы поймёте, что мне бы всего ближе было обратиться к непосредственному источнику моей радости; но, во-первых, наша радость не отвечает на письма, а во-вторых, никаким убеждениям в угоду я не имею повода говорить против своих, которых никому не навязываю, зная, что это бесполезно. Убеждения не занимают, а наживают»583. Фет был симпатичен жене Толстого, к тому же постоянно высказывал в письмах, адресованных ей, искреннее восхищение её красотой, умом и характером.