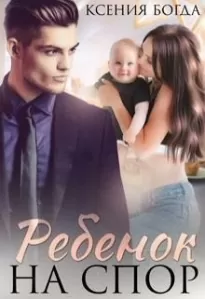Записки старого хрыча(зачеркнуто) врача
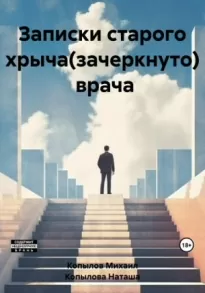
- Автор: Михаил Копылов
- Жанр: Биографии и Мемуары / Юмористическая проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Записки старого хрыча(зачеркнуто) врача"
Небольшое философское отступление на тему моей лени
Бабушка Лифшиц в мой дошкольный период всегда говорила: «Миша у нас будет отличником!» С тем я и пришел в первый класс — заранее готовя себя в отличники. Мама-то у меня была «круглая отличница». До сих пор в доме хранятся ее грамоты, полученные за отличную учебу, — такие красивые, помпезные, со знаменами и портретами вождей. Но действительность внесла, и довольно быстро, коррекцию в мои представления о жизни и учебе. Я оказался неспособным и ленивым и перебивался с тройки на четверку. Честолюбия во мне было на пятак, а крики деда: «Не будешь учиться — заберут в солдатчину!» совершенно меня не пугали, хотя «солдатчины» не хотелось. Не могу отдельно не сказать о самом слове «солдатчина». Вот как определяет его словарь Даля: «Солдатчина — рекрутский набор». И для деда это понятие наверняка сопрягалось с кантонистами — еврейскими мальчиками, в 12 лет насильно взятых в солдаты. Так что дед грозил моей несчастной судьбе, опираясь на историю евреев в России. Но, как я уже писал, криков деда я не боялся, а истории попросту не знал. Назревал вопрос о моей будущей дороге в жизни.
Были предложены разные варианты — техническое образование, гуманитарное и еще что-то, но в конце концов мама решила, что наукой будущего является биология, а я ей не возражал — ну, пусть будет биология. Надо заметить, что первая моя
школа — та, что на Каменщиках и с двумя ошибками на фасаде, была «восьмилеткой» и как раз к концу моей учебы в восьмом классе она стала десятилеткой. Но тогда я был очень легким на подъем и собрался в первую в Москве биологическую школу. Уже потом я отяжелел на подъем до полной неподвижности, а тогда я не понимал простой истины: «День новый, дерьмо старое». Тогда же мне казалось, что как только я окажусь в нужном месте — так меня сразу подцепит нужное время, и всё в жизни станет хорошо.
И вообще, до пятидесяти лет меня мучило чувство вины, которое можно назвать комплексом неполноценности. А можно и не назвать. Этот комплекс заключался во внутренней борьбе глубинных и базисных левантийских черт моего характера с чертами, искусственно мне прививаемыми (по модели Сани Григорьева из книги Каверина «Два капитана»— «Бороться и искать, найти и не сдаваться»). Причем модель левантийская грозила неприятностями в жизни («солдатчиной»), а модель из «Двух капитанов» обещала моральное и материальное благополучие — хорошая учеба в школе почти наверняка гарантировала высшее образование, высшее образование — кандидатскую диссертацию, а диссертация — карьеру.
Эти два слова — КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ — достойны быть отлитыми даже не из бронзы — из золота, они означали звон фанфар, честь и славу, гордость и смысл жизни.
Про меня в моей школьной характеристике наш классный руководитель, преподаватель физкультуры Лев Рувимыч, написал, что я «недостаточно собран и целеустремлен». А в институте преподаватель физической и коллоидной химии назвал меня «неспособным лентяем». Но почему-то педагогам — как школьным, так и институтским, — казалось, что я ленивый Марк Юлианович Райсбаум, а не Миша Копылов, который на самом деле «плохой солдат, но старается». И спрос с меня часто был как с еврейского ленивого вундеркинда, и наказывали меня за леность плохими оценками, а на самом деле я старался в меру скромных сил — другое дело, что мне вся эта учеба была совершенно неинтересна. А так вот, как многие — лениво полистать учебник или конспект, чтобы потом нормально ответить, — я не мог. Мне надо было зубрить, а зубрить не хотелось.
Внутреннее противоречие обострялось. Но для подъема по карьерной лестнице надо было делать столько движений, подлаживаться под такое количество людей, находить столько времени и тратить его на непонятное нечто — в общем, идти на глубокий внутренний конфликт с медлительным и нетребовательным «левантом».
Мои товарищи по институту искали всякие возможности преуспеть — «делали дела», как они это называли. Я же, фактом своего рождения награжденный их мечтой — московской пропиской, спокойно пошел на скорую — «там видно будет». И уже после скорой, имея возможности делать какую-то науку, а следовательно, продвигаться по дороге к «кандидатской диссертации», я не делал ни хрена, впрочем, внутренне от этого страдая, на это раз — от комплекса неполноценности. Люди вокруг куда-то продвигаются, а я только места работы меняю.
За год до отъезда я попал в самый-самый центральный психиатрический институт (такого больше нет нигде в мире — оттого, что нигде такое громоздкое чудовище не нужно). И занимался я там полной ерундой — тасовал какие-то карточки, произвольно мною же написанные. «Это будет материалом твоей будущей диссертации!» — сказали мне тоном короля, производящего своего вассала в рыцари. «И сколько лет на нее потребуется?» — спросил я. «Лет восемь». Но почему-то я предпочел потратить ближайшие восемь лет на другое — мне не суждено было стать «к. м. н.»…
В эти восемь лет мной действительно овладел беспокойный дух Сани Григорьева, но вектор его приложения был направлен не на написание диссертации — короче, я стал психиатром в Израиле, и, успокоенный достигнутым, Санин дух покинул меня навеки.
Но тогда, в 1967 году, в преддверии возможности получения той самой цели в жизни, обретя которую, надлежит «найти и не сдаваться», я перешел в новую школу, которая располагалась в Гнездниковском переулке, рядом с площадью Пушкина, то есть в самом центре Москвы.
Надо отметить, что нас, бывших москвичей, в Израиле бывшие соотечественники из других мест бывшей Империи недолюбливают, небезосновательно считая снобами, сверху вниз смотрящими на бывших провинциалов. Нас даже передразнивают: «малако», «Масква». Ма-а-сковский у нас акцент! Сейчас, общаясь с некоторой частью москвичей, так и видишь, как они представляют себе карту мира. Эта карта поделена на Провинцию и Непровинцию (Москву). Но я думаю, что никто из них не догадывается, что такое же отношение существовало, а может, по сей день существует и в Москве. Я, по сути из третьего поколения москвичей, ощущал себя в центре Москвы провинциалом. Ах эти ужасные снобы с Арбата и с улицы Горького (бывшая Тверская и будущая Тверская) — заносчивые и высокопарные, с чувством снисходительного превосходства поглядывавшие на провинциала с Таганки, жившего по внешнюю сторону Садового кольца.
Как была создана биологическая школа и что она из себя представляла
Про то, как в новой школе был создан, за год до того, как я туда перешел, биологический класс, ходила такая байка. Учился на класс старше меня один неплохой и неглупый парень, и решил он посвятить свою жизнь биологии. Так оно и вышло, и теперь он доктор биологических наук. А тогда он был школьником, но не простым, а внуком двух академиков. И решил этот парень поступать в МГУ на биофак, а жил он поблизости, против Телеграфа — на праздники балкон его квартиры всегда был занавешен портретом какого-нибудь вождя. Самым удобным решением проблемы подготовки будущего абитуриента биофака к конкурсным экзаменам было перепрофилирование его класса в биологический, а следующий поток, годом моложе, уже набирали по всей Москве.
Школы этой, в Гнездниковском, больше нет. Здание сохранилось, да только это теперь не школа, а что-то другое. В центре население сильно поредело, детей стало мало и ряд школ закрыли.
Что было приятно в нашей школе — это полное отсутствие пижонства, выпендрежа и социального расслоения: дети там учились разные, из разных семей, одеты все были одинаково никак, и большинство из нас просто не знало, что надо обращать внимание на то, во что ты одет, — был бы не голый. Самым большим «понтом» считалось курение «дорогих» сигарет с фильтром — типа «Ява» или «Столичные». А еще были болгарские сигареты — на мой взгляд, чудовищные. Всякие BT, Rodopi, Opal. Я даже анекдот про них помню: «Хотите “Стюардессу?” — Спасибо, у меня “Опал”».
Русскому языку нас учила Генриетта Моисеевна, английскому — Белла Лазаревна, и даже физкультуре — Лев Рувимович. Впрочем, и в классах, и в учительской были представлены (в меньшинстве) и другие национальности — например, друг мой закадычный Леха Коненков, внук знаменитого скульптора.
Леха вообще был человеком очень колоритным, довольно похожим на знаменитого деда, но как-то совсем нетронутый лучами дедовской славы. Ну Леха, ну Коненков — лентяй, умница и двоечник, который, прямо по райкинскому герою, «пить, курить и говорить» начал одновременно. Куда он сгинул и как сложилась его судьба — понятия не имею. Его сестра Алла не так давно выступала по телевидению, рассказывала о музее деда.
А что такое «ходить на фирму» и как по-фински «жевательная резинка»?
Мне казалось, что слово «фарцовка» кануло в историю. Какое-то оно и по произношению трудное. Моя бабушка, например, выучить это слово была не в состоянии и называла фарцовщиков «формовщиками». Впрочем, бабушка одного моего приятеля не смогла выучить, как зовут любимую некошерную закуску под пиво, и называла скверные креветки нашей молодости «твои корветы».
Решил я проверить в Интернете — есть ли определение этого слова, встречается ли оно в словарях. Словари о фарцовке молчали, а прочий Интернет откликнулся 59 тысячами ссылок!
Выходит, народ не забыл этих бизнесменов, появившихся после Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Причем, как я понял, этот преступный промысел — покупка или выклянчивание у иностранцев с целью перепродажи всякого западного ширпотреба — был значительно более распространен в Ленинграде (всё же портовый город, да и граница близко), чем в Москве.
У меня, москвича, был только один школьный приятель, который «ходил на фирму» — так звалась фарцовка на сленге. Он рассказывал, что за зимний период можно было наторговать приличную сумму — две-три средние зарплаты того времени, если более-менее регулярно крутиться около гостиниц, прыгая перед «форинами» и выкрикивая «пен! пен!» или «гам! гам!» Ведь ни шариковых ручек, ни жевательной резинки в продаже тогда не было. Главное — не переступить грань и не заняться «валютными операциями»: покупкой долларов и прочих иностранных денег. Я уже не помню пропорцию — за какое количество долларов давали какой срок; когда-то знал, да забыл.
Ходила такая частушка:
Мальчик на улице доллар нашел, Весело мальчик в валютку пошел. Долго папаша ходил в комитет — Доллар отдали, а мальчика — нет.
Для тех, кто понял не все слова в частушке, напомню, что «валютка» — это специальный магазин, в котором можно было купить товары за валюту — правом покупки в этом магазине обладали иностранцы, и некоторое количество советских граждан, которым по разным причинам разрешали иметь валюту. Ну а «комитет» — это многократно переименованное учреждение тайной советской полиции. Заработанные сомнительными доходами деньги проматывались «фирмачами» совершенно по-дурацки — ездили, например, в туалет на ВДНХ.
Другое дело — Ленинград, там это дело было поставлено серьезно. Настолько, что, когда я задал где-то с год назад в компании бывших ленинградцев, своих ровесников, вопрос: «Как ты у финна попросишь жвачку?», я нисколько не сомневался, что от кого-нибудь наверняка получу правильный ответ. Так и оказалось — мне ответили: «Пурукуми йо?» И не только ответили, но и рассказали пару сцен из фарцовской жизни Питера.