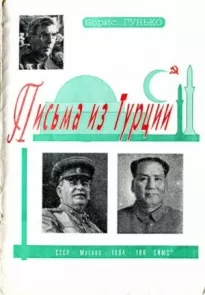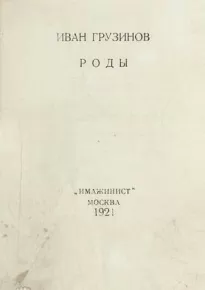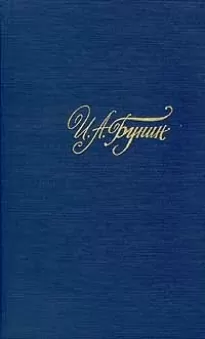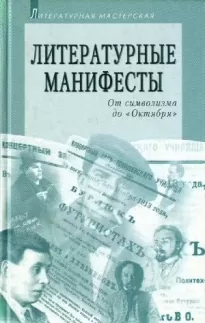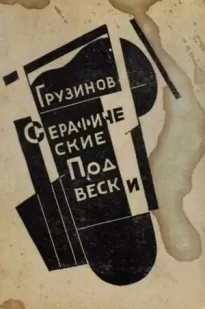Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953
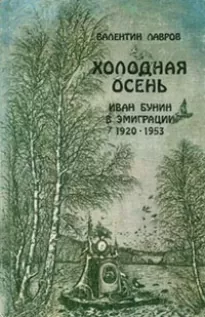
- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Биографии и мемуары / Публицистика
Читать книгу "Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953"
И уж совсем необъяснимое для меня чудо — Лермонтов. Не перестаю им восхищаться: в двадцать восемь лет так все хорошо, безошибочно знать!
Если бы какие-нибудь Гонкуры до конца знали все эти вещи — они стали бы первоклассными писателями. А так — много блеска, вроде все верно, талантливо, но как все сухо, неодухотворенно, постоянно чего-то недостает. Или тургеневская Лиза — для меня она все-таки абстракция. Ее образ несфокусирован, что ли, расплывается. Иные черты просто несовместимы между собой. Разве вы сможете ясно представить себе Джемму? Усики над верхней губой, а дальше что? Нет, я ее не вижу. Чтобы ясно представить ее, мне нужно самому дописать этот образ — манеру ходить, одеваться, бросать вроде бы незначащие реплики и так далее…
Я и с Алексеем Максимовичем, помнится, на эту тему спорил. Когда жил у него на Капри, я, прочитав один из последних рассказов Горького, сказал ему:
— Безусловно, талантливо! Но… но вы словно побывали в анатомическом театре и взяли оттуда — то лицо, а здесь — голову, а вот от этого — туловище. Вот у вашего персонажа и появились несовместимости.
Горький подумал, почесался и добродушно произнес: «Пожалуй, в этом вы правы, Иван Алексеевич».
Дружили мы в те годы крепко. Подкупало меня в нем многое: преданность литературе, внимательное, даже братское отношение к писателям. Ведь нигде не платили нам так хорошо, как в его издательстве «Знание».
— Впрочем, — со вздохом проговорил Бунин, — как бы ни разошлись наши пути после революции, надо признать и талант его, и исключительное влияние на российскую интеллигенцию начала века.
Без конца Иван Алексеевич вспоминал Льва Николаевича Толстого: за столом, на прогулках, в беседах — в любой теме он умел перекинуть мостик к своему кумиру.
Когда наступало теплое время, совместные прогулки с Бахрахом по грасским окрестностям растягивались и по расстоянию, и по времени. Едва начинало темнеть, Иван Алексеевич звал своего «иждивенца», и они отправлялись по излюбленной Наполеоновой дороге. У небольшой поляны, заросшей татарником, на развилке дороги стоял пень от могучего дерева. Иван Алексеевич непременно усаживался на него, чтобы отдохнуть, пожаловаться на скудность жизни и выразить возмущение той медлительностью, с которой, на его взгляд, разворачивались события на фронте.
Побрюзжав, Бунин начинал говорить с откровенностью, на какую не был способен в другой обстановке. Чаще всего касался литературных тем, делился мыслями, которые у него возникали при чтении тех немногочисленных книг, которые он хранил в бельевом шкафу и которые перечитывал, вероятно, десятки раз — Тютчева, Чехова, Флобера, Лермонтова, Пушкина, Алексея Константиновича Толстого и, конечно, Льва Николаевича.
— Кажется, — говорил он Бахраху, — в «Казаках» каждое слово помню, а все-таки всегда тянет перечитывать их. Пусть это произведение еще не вполне зрелое, пропитанное идеями Руссо, но как в нем уже ощущается толстовский размах, его творческий почерк.
А ведь было время, какие-то дураки нашли в свое время в «Казаках» недостатки, объявили, что повесть, мол, неактуальна, архаична, не решает никаких проблем — глобальных, конечно. У дураков все проблемы всегда «глобальны». Пусть эти проблемы решают Боборыкин и Златовратский.
Я бы, кажется, отдал, все на свете, лишь бы научиться подражать толстовским «промахам». Помните, хотя бы первое впечатление Оленина от Кавказских гор, его слова, что горы и облака имеют одинаковый вид: что-то серое, белое, курчавое и их красота «такая же выдумка как музыка Баха или
Темнота над грасскими холмами сделалась густо-фиолетовой. Тут же появились несметные полчища средиземноморских светляков — «лючиолей». Бунин надолго замолкал, следя за их фантасгическим полетом в ореоле фосфорического света.
— Вот и еще одно из чудес света, — произносил он наконец. — Как же потрясающе прекрасен мир божий, и как люди быстро, уже в раннем детстве привыкают ко всем этим чудесам, и почти никто за всю жизнь не восторгается ими так, как они этого стоят.
Потом он вновь обращался к литературным темам,
— Вот вчера на ночь, — произносил Иван Алексеевич, — я перечитывал Тютчева. И наткнулся вот на эти строки:
Бунин прочел стихи вполголоса, но у собеседника словно мороз по телу пробежал.
— Знал что-то старик, удивительный умница! — добавил он. — Нет, Толстой ошибся, говоря, что «умнее Фетушки человека нет». Где уж тут Фетушке…
Тютчева я полюбил с гимназических лет, многое знал наизусть. Кстати, в елецкой гимназии, в которой я учился, преподавателем русского языка одно время был Василий Васильевич Розанов. Я его не успел застать, закончив, как вам хорошо известно, свое образование четвертым классом.
Уже будучи довольно известным литератором, я посетил Елец. Меня пригласили на какой-то гимназический вечер. Я был почетным гостем, бывшим питомцем, а теперь окруженный ореолом славы. Старичок директор все еще был на своем посту. Мне захотелось расспросить про такую всемирную известность, как Розанов, который меня всегда интересовал.
Услыхав вопрос, директор замахал на меня руками:
— Ну, что от него хотите — Розанов вполне сумасшедший. Случалось, он обращался к ученикам: «Вы меня понимаете? Нет? Это очень хорошо, это прекрасно! Настоящая мудрость как раз сокрыта в том, чтобы ничего не понимать!»
— Скольких литературных «героев» было на моих глазах свергнуто с пьедесталов, от скольких литературных и прочих «слав», казавшихся незыблемыми, «навечно» вошедших в историю, не оставалось и следа! Носили на руках, называли «великими», при жизни зачисляли в разряд «классиков» — и остался от них только пшик! А ведь их книги казались событиями, из-за них ломали копья, десятками тысяч расходились открытки с их «бессмертным» изображением! Будь я Леонидом Андреевым, я сказал бы, что смерть с чрезмерным тщанием просеивает в свое решето популярность и земную славу.
Вот те же — Боборыкин и Златовратский.
На рубеже веков народник Златовратский был столь знаменит, что его в литературной среде не называли иначе, как «Триумфальными воротами». Он сочинял пухлые, многостраничные романы из жизни мужиков. Тогда это было необычно и смело. Недавно я брал из церковной библиотеки в Каннах старинные комплекты «Отечественных записок» и пробовал читать его вещи. Ей-богу, не смог — все плоско, фальшиво, лубочно. Всюду какой-то шаблонный мужик Масей Масеич пли Псой Псоич — где он такие имена откапывал? Писал вроде с сочувствием к мужику, но ни мужика, ни деревни не знал. Просо от пшеницы отличить не умел.
Боборыкин был совсем из другого теста. Известный издатель Стасюлевич считал своей приятной обязанностью открывать январскую книжку «Вестника Европы» каким-нибудь новым романом Тургенева. Это был литературный подарок читателю. После смерти Ивана Сергеевича сие почетное место досталось Боборыкииу. Вот как он тогда расценивался!
Он подолгу живал за границей, из года в год вел в толстых журналах очень дельные обзоры французской литературы. В совершенстве владел иностранными языками. Близко знавал начинавшего путь в литературе Мопассана, неизменно называл его — Ги. На равной ноге держался с Гонкурами и Флобером.
Боборыкин мне как-то рассказывал:
— Зашел однажды в Большую Оперу, встретил в фойе Флобера. Зашел разговор о Карфагене. Я говорю
Флоберу: «Вы бы, милостивый государь, почитали то-то и то-то, это вам очень пригодится, а то документальная сторона у вас не очень убедительна». Не послушал он меня, вот его Карфаген и вышел театральным.
Одно время Боборыкин жил в Риме и удостоился высокой чести — был принят в личной аудиенции самим папой. Его роман «Вечный город» (вы, конечно, о такой книге даже не слыхали, а ей когда-то зачитывалась вся «передовая интеллигенция»!) — любопытнейшая работа! О Риме конца века Боборыкин был осведомлен не хуже Золя. У них, кстати, много общего между собой. Если вас интересуют модные течения, тенденции у купцов или в буржуазной среде в конце прошлого века, дамские наряды, какие-то там крики моды, вообще любые мелочи восьмидесятых-девяностых годов, обязательно прочитайте Боборыкина. Но среди всех его многочисленных томов, которые на книжную полку не поместятся, есть нашумевший когда-то и лучшее, что им написано — роман «Василий Теркин».
Вел он правильный образ жизни, во всем был чистенький и аккуратный. Одно время мы жили соседями в гостинице «Лоскутная», это в доме три по Тверской, рядом с Охотным рядом. Засиделись мы как-то в «Стрельне» до утренней зари, отмечали выход какой-то — не упомню точно — книги. И вот после бессонной ночи появились мы в «Лоскутной» — Леонид Андреев, Скиталец. Оба в поддевках, в русских рубахах, в мягких полусапожках. Навстречу нам — Боборыкин. Он свежевыбрит, в нарядном утреннем шлафроке, из которого выглядывает большое белое жабо. Обрадовался нам:
— И вы сегодня, значит, встали спозаранку…
— Да мы еще вовсе не ложились! Мы из «Стрельны»…
Он моих слов уяснить не мог. И только тихо, с мягкой интонацией спросил:
— А вот эти, что с вами, неужто и они писатели? — и удивленно покачал головой. Прекрасный был старик!
Или, к примеру, Бальмонт. Он любил публично выступать, и дамы буквально закидывали его цветами, толпами поджидали его у выхода — «чтоб в трепете чувств прикоснуться к одежде»! Его портреты можно было видеть на каждом шагу, знакомством с ним гордились.
И он, кажется, всерьез принимал всю эту чепуху, считал себя «самым главным поэтом русского Парнаса». Как-то Бальмонт встретил меня и выспренно произнес:
— Знаете, Бунин, я все-таки прочел вашего… ну, как это… «Человека из Сан-Франциско».
— «Господина из Сан-Франциско».
— Ну, пусть «Господина»… Неплохо! У вас, Бунин, есть чувство корабля.
Я чуть не умер от смеха и неделю знакомым рассказывал про «чувство корабля» и про «ничего». Тот же Бальмонт поделился со мною:
— Бунин, вы мне не поверите, но я все-таки заставил себя и прочитал до конца «Войну и мир» графа Толстого. Знаете, это очень неплохо, местами даже просто хорошо, особенно батальные сцены…
Что там Бальмонт! Как-то в Париже сидел я с Алдановым в кафе. Неожиданно появляется Набоков, который тогда подписывался еще по птичьи — Сириным. Тот тоже сообщил нам:
— Поздравьте меня: впервые в жизни я до конца осилил «Войну и мир».
— Ну и как? — не без ехидства спросил Алданов.
— Есть отличные сцены. Вот, к примеру, ампутированная, белая нога Анатолия. Ничего не скажешь, эта сцена здорово передана.
Алданов покраснел как рак:
— Вы уж этого никому не рассказывайте!
Этой «отличной сценки» Бунин, кажется, так и не простил никогда Набокову. Признавая его формальный талант, он обнаружил в нем лишь «блеск, сверканье и отсутствие полное души», справедливо полагая, что кому многое дано, с того и многое спросится.