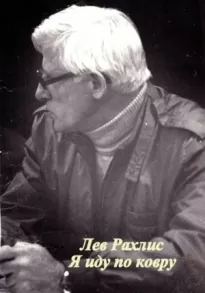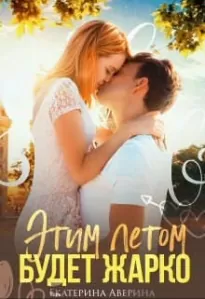Империй. Люструм. Диктатор

- Автор: Роберт Харрис
- Жанр: Историческая проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Империй. Люструм. Диктатор"
Когда мы появились на Марсовом поле, Лабиен был уже на месте, возвышаясь на помосте вместе с бюстом Сатурнина, так необходимым для его замыслов. Он был честолюбивым солдатом, земляком Помпея и пытался подражать своему кумиру во всем — в одежде, щеголеватой походке и даже прическе: волосы его были зачесаны назад, как у Помпея. Когда трибун увидел, что появился Цицерон со своими ликторами, он засунул в рот пальцы и издал громкий, пронзительный свист, подхваченный толпой, насчитывавшей около десяти тысяч человек. Этот угрожающий шум еще больше усилился, когда на поле появился Гортензий, ведя за руку Рабирия. Старик был не столько испуган, сколько удивлен при виде множества людей, которые пытались пробраться поближе, чтобы посмотреть на него. Меня пихали и толкали, в то время как я старался не отстать от Цицерона. Я заметил ряд легионеров в сверкавших на солнце касках и панцирях. За ними, на местах для почетных зрителей, находились полководцы — Квинт Метелл, покоритель Крита, и Лициний Лукулл, предшественник Помпея в должности начальника над восточными легионами. Цицерон скорчил гримасу, когда увидел их. В обмен на их поддержку он перед выборами пообещал обоим военачальникам триумфы, но пока ничего для этого не сделал.
— Должно быть, все действительно плохо, — прошептал мне Цицерон, — если уж Лукулл покинул свой дворец на Неаполитанском заливе и смешался с толпой.
Он полез по ступенькам на помост, за ним — Гортензий и Рабирий. Последнему было очень тяжело забираться, и его пришлось втащить на помост за руки. Одежда всех троих, когда они выпрямились, блестела от плевков. Особенно потрясен был Гортензий: видимо, он не представлял себе, как ненавистен был сенат простым римлянам той зимой. Ораторы уселись на свою скамью, Рабирий разместился между ними. Раздался звук трубы, и на другом берегу Тибра, над Яникулом, взмыл в воздух красный флаг, говоривший о том, что городу ничто не угрожает и судилище может начинаться.
Как председательствующий магистрат, Лабиен вел собрание и одновременно выступал как обвинитель, что давало ему огромное преимущество. Будучи по природе задирой, он решил говорить первым и принялся громко оскорблять Рабирия, который все глубже и глубже вжимался в спинку своего кресла. Лабиен даже не удосужился пригласить свидетелей. Они ему были не нужны — голоса тех, кто составлял толпу, уже лежали у него в кармане. Он закончил суровой тирадой относительно спесивости сената, алчности той небольшой клики, которая им управляет, и необходимости сделать из дела Рабирия пример для всех, чтобы в будущем ни один консул не мог даже помыслить о том, чтобы распорядиться об убийстве гражданина и избежать наказания. Толпа заревела в знак согласия.
— И тогда я понял, — позже рассказал мне Цицерон, — с полнейшей ясностью, что главной целью толпы, собранной Цезарем, был не Рабирий, а я как консул. Надо было взять все в свои руки, иначе я не смог бы и дальше бороться с Катилиной и ему подобными.
Следующим выступил Гортензий и сделал все, что было в его силах, но его длинные затейливые речения, которыми он был знаменит, относились к другой обстановке и, по правде говоря, к другой эпохе. Ему перевалило за пятьдесят, он почти уже отошел от дел, давно не упражнялся в красноречии, и это было заметно. Те, кто находился рядом с помостом, стали его передразнивать, Я сидел достаточно близко, чтобы увидеть панику на его лице: ему наконец стало ясно, что он — Великий Гортензий, Мастер Прений, Король Судов — теряет внимание слушателей. Чем больше он размахивал руками, бегал по помосту, вертел своей благородной головой, тем более смешным казался. Его доводы никого не волновали. Я не мог услышать всего, что он говорил, так как громкий гомон тысяч людей, топтавшихся на поле и беседовавших друг с другом в ожидании голосования, заглушал слова Гортензия. Он остановился, покрытый, несмотря на холод, потом, вытер лицо платком и вызвал на помост свидетелей — сначала Катула, а затем Исаврика. Люди слушали их почтительно, но, как только Гортензий возобновил свое выступление, снова заговорили друг с другом. В эту минуту он мог бы обладать языком Демосфена и находчивостью Платона — ничего не изменилось бы. Цицерон смотрел в толпу прямо перед собой. Неподвижный, с побелевшим лицом, он казался высеченным из мрамора.
Наконец Гортензий сел, и настал черед консула. Лабиен предоставил ему слово, но шум был таким, что Цицерон остался сидеть. Внимательно осмотрев свою тогу, он смахнул с нее несколько невидимых пылинок. Шум продолжался. Хозяин проверил свои ногти, оглянулся кругом и стал ждать. Ожидание оказалось долгим. Но вот над Марсовым полем повисла уважительная тишина. Лишь тогда Цицерон кивнул, как бы с одобрением, поднялся на ноги и заговорил:
— Хотя не в моем обычае, граждане, начинать речь с объяснения причины, почему я защищаю того или иного человека, все же, при настоящей защите жизни, доброго имени и всего достояния Гая Рабирия, я нахожу нужным сообщить вам о соображениях, заставляющих меня оказать ему эту услугу. Ибо это суд не над Рабирием — старым, дряхлым, одиноким человеком. Это дело, квириты, преследует лишь одну цель — чтобы впредь в государстве не существовало ни государственного совета, ни согласия между честными людьми, направленного против преступного неистовства дурных граждан, ни — в случаях крайней опасности для государства — убежища и защиты для всеобщей неприкосновенности. При таком положении дел я молю Юпитера Всеблагого Величайшего и других бессмертных богов и богинь ниспослать нам мир и милость. Я умоляю их о том, чтобы свет этого дня принес Гаю Рабирию спасение, а государство наше укрепил[47].
Цицерон всегда говорил, что чем больше толпа, тем она глупее, и в этом случае лучше всего обратиться к сверхъестественным силам. Его слова прокатились по притихшему полю, как гром барабана. По краям толпы еще велись какие-то разговоры, но они уже не могли заглушить его слов.
— Итак, Лабиен, кто же из нас двоих действительно сторонник народа: ты ли, считающий нужным во время самой народной сходки отдавать римских граждан в руки палача и заключать в оковы, ты ли, приказывающий на Марсовом поле воздвигнуть и водрузить крест для казни граждан, или же я, запрещающий осквернять народную сходку присутствием палача? Хорош народный трибун, страж и защитник права и свободы!
Лабиен махнул рукой в сторону Цицерона, будто хотел согнать овода с лошадиной спины, но в его жесте сквозила неуверенность: как все забияки, он лучше наносил удары, чем держал их.
— Ты утверждаешь, что Луций Сатурнин был убит Гаем Рабирием. Но ведь Гай Рабирий, на основании показаний многочисленных свидетелей, при красноречивейшей защите Квинта Гортенсия, уже доказал ложность этого обвинения. Я же, будь еще у меня полная возможность говорить по своему усмотрению, принял бы это обвинение, признал бы его, согласился бы с ним. О, если бы само дело позволило мне с гордостью заявить, что Луций Сатурнин, враг римского народа, был убит рукой Гая Рабирия!
Он выразительно показал на бюст, и ему пришлось замолчать на несколько секунд — так сильна была волна ненависти, направленной на него.
— Но твой дядя, скажут нам, там был; положим, что он там действительно был — и притом не вынужденный к этому ни отчаянным положением своих дел, ни каким-либо семейным несчастьем; приязнь к Сатурнину, предположим, побудила его пожертвовать благом отечества ради дружбы. Почему же это могло стать для Гая Рабирия причиной измены делу государства, причиной отказа встать в ряды честных людей, взявшихся за оружие, неповиновения зову и империю консулов? Что стал бы я делать, если бы Тит Лабиен, подобно Луцию Сатурнину, устроил резню среди граждан, взломал двери тюрьмы и во главе вооруженных людей захватил Капитолий? Я сделал бы то же, что сделал Гай Марий: доложил бы об этом сенату, призвал бы вас к защите государства, а сам, взявшись за оружие, вместе с вами дал бы отпор поднявшему оружие врагу. А что сделал бы Тит Лабиен? Он распял бы меня!
Да, это было смелое выступление. И я надеюсь, что смог передать тогдашнюю обстановку: ораторы с их немощным клиентом, сидящие на помосте; ликторы, стоящие у его основания и готовые защищать консула; римляне — плебс, сенаторы и всадники, — сбившиеся в кучу; легионеры в сверкающих шлемах и военачальники в пурпурных одеяниях; овечьи загоны, приготовленные для голосования; неумолчный гомон; храмы, сверкающие на далеком Капитолии, и жгучий январский мороз. Я пытался найти в толпе Цезаря и, кажется, пару раз увидел его лицо с тонкими чертами. Там же, естественно, был и Катилина со своими приспешниками, включая Руфа, который выкрикивал оскорбления, обращенные к его бывшему патрону.
Цицерон закончил, как и всегда, стоя с рукой на плече своего клиента и взывая к милости суда:
— Он не просит у вас счастливой жизни, но только возможности достойно умереть.
А затем все закончилось, и Лабиен распорядился начать голосование.
Цезарь подошел к подавленному Гортензию, они вместе спрыгнули с помоста и подошли к тому месту, где стоял я. Как всегда после большого выступления, Цицерон еще не остыл; его ноздри раздувались, глаза блестели, он глубоко дышал и походил на лошадь, только что закончившую скачку. Выступление было блестящим. Мне особенно запомнилось это: «Недолог путь жизни, назначенный нам природой, но беспределен путь славы». К сожалению, самые прекрасные слова не могут заменить голоса при волеизъявлении; подошел Квинт и угрюмо сообщил, что дело проиграно. Он только что наблюдал за голосованием — сотни людей единогласно высказались за виновность Рабирия. Это значило, что старику придется немедленно покинуть Италию, его дом будет разрушен, а собственность отойдет к государству.
— Да, это трагедия, — в сердцах сказал Цицерон.
— Но ты сделал все, что мог, брат. В конце концов, он старик и жизнь его подходит к концу.
— Я говорю не о Рабирии, глупец, а о своем консульстве.
Когда он произносил эти слова, раздались шум и крики. Мы обернулись и увидели, что недалеко от нас началась драка; в самой гуще был виден Катилина, размахивавший кулаками. Несколько легионеров бросились вперед, чтобы разнять дерущихся. Метелл и Лукулл встали на ноги, наблюдая за происходящим. Авгур Целер прижал сложенные ладони ко рту и понукал легионеров, стоя рядом со своим двоюродным братом Метеллом.
— Только взгляните на Целера, — сказал Цицерон с нотками восхищения. — Как ему не терпится присоединиться к дерущимся! Он просто обожает драки. — Затем вдруг задумался и сказал: — Мне нужно с ним переговорить.
Он пошел так быстро, что ликторам, расчищавшим путь, пришлось бегом обгонять его. Когда военачальники увидели приближающегося консула, они неласково взглянули на него. Оба уже давно пребывали за городскими стенами, ожидая, когда сенат проголосует за их триумфы. Лукулл ждал уже несколько лет, в течение которых он построил дворец в Мизене, на берегу Неаполитанского залива, и дом к северу от Рима. Но сенаторы не спешили согласиться с их требованиями — в основном из-за того, что полководцы умудрились поссориться с Помпеем. Поэтому оба оказались в ловушке. Триумф полагался только тем, у кого был империй, а появление в Риме без одобрения сената естественным образом лишало их империя. Им можно было только посочувствовать.