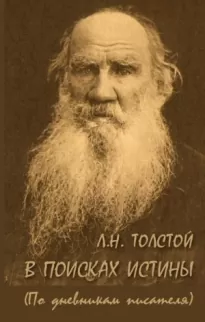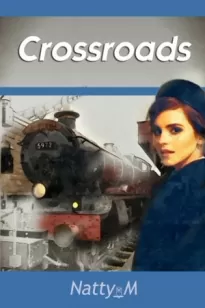Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
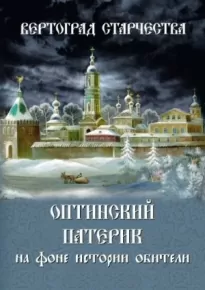
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
— Жаль, Лев Николаевич, что у меня нет достаточно гражданского мужества написать в Петербург, чтобы за вами следили повнимательнее и при первом поводе сослали бы в Тобольск или дальше под строжайший надзор; сам я прямого влияния не имею, но у меня есть связи, и мне в Петербурге верят сильные мира сего.
А он в ответ, простирая ко мне руки:
— Голубчик, напишите, сделайте милость… Я давно этого желаю и никак не добьюсь!»306.
В этот раз Толстой был и у старца Амвросия, — разговор шел около часа, но подробности его неизвестны.
Константин Николаевич Леонтьев в писаниях своих отмечал возрастающее влияние Оптиной пустыни не только на простой народ, но и на образованное общество. В статье, написанной в 1890 году («Добрые вести»), он писал: «Недавно в наш Оптинский скит поступили послушниками двое молодых людей из лучшего нашего дворянства… Они двоюродные братья. Оба женаты, супруги их молоды и красивы, средства их настолько хороши, что г-жа Шидловская в своем воронежском имении устроила на свой счет женскую общину, в которой, как слышно, и будет сама настоятельницей. И мужей, и жен одели здесь, в Оптиной, в монашеское платье, и обе молодые дамы уехали в Воронеж, а мужья остались в скиту. В последний раз, уже облаченным в подрясники, им позволили сходить в гостиницу проститься с мужьями, братьями, и прощание это, говорят, было до того трогательно, что старый монах-гостинник, человек торговый и вовсе не особенно чувствительный, плакал, глядя на них, и восклицал: “Господи! Да что же это вы делаете? Да как же вы это, такие молодые, расстаетеся! Да разве это так можно! Боже мой!”.
Жили обе молодые четы между собою в полном согласии, и, когда одна приезжая дама спросила у г-жи Ш-й, что побудило их решиться на такой геройский шаг, она отвечала: “Мы были слишком счастливы!”.
Вот это истинно христианский страх! Страх от избытка земного благоденствия. Это высшее проявление того аскетизма, без некоторой доли которого и в мирской жизни нет настоящего христианства…
Сами ли они позднее поняли, что без опытного руководителя легко сбиться в этом отношении с правильного и разумного пути, или кто-нибудь надоумил их, но они уже несколько лет тому назад начали ездить в Оптину и советоваться со старцем Амвросием…
Надо радоваться этому случаю как одному из самых поразительных примеров того религиозного обновления, которое становится у нас все заметнее… Я думаю об идеале, к которому наконец-то стали многие русские люди на глазах моих стремиться… Важно то, что религиозное настроение все растет и растет в высших общественных и умственных сферах наших.
Я знаю Оптину пустынь давно, уже скоро 16 лет… и теперь живу около нее безвыездно, скоро будет четвертый год. И вижу большую разницу, большую перемену к лучшему. Потребность приближения к Церкви, к ее преданиям, потребность духовного руководства возросла на моих глазах.
Все чаще и чаще стал с годами встречать людей, которые приезжают сюда не из одного любопытства и не по одному только национальному чувству, которое влечет полюбоваться на нечто действительно русское, на нечто живущее теми началами, которыми жили предки наши, на русский благоустроенный монастырь. Нет! Доказательств очень много тому, что лично религиозные нужды усилились много за последние годы. Желание видеть старцев, беседовать с ними, посоветоваться, благословиться у них — это только одно из проявлений того настроения, о котором я говорю»307.
Уже в последний год своей жизни (1891) Леонтьев писал В.В. Розанову из Троице-Сергиевой Лавры, куда предложил ему на время переселиться после келейного монашеского пострига старец Амвросий: «Об отце Амвросии позвольте тоже отложить подробную беседу. Скажу только следующее: святость, признаваемая Церковью, может быть благодатью Божьей усвоена людьми самых несходных натур и самых разнородных умов. Отец Амвросий по натуре и по уму склада более практического, чем созерцательного. “Практичность”, разумеется, не в каком-нибудь мелком смысле, а в самом высоком и широком. В том смысле, например, в каком и евангельское учение можно назвать в высшей степени “практическим”. И любовь, и жестокие угрозы, и высшие идеалы отречения, и снисхождение к кающимся грешникам. Прибавлю еще: он скорее весел и шутлив, чем угрюм и серьезен, весьма тверд и строг иногда, но чрезвычайно благотворителен, жалостлив и добр.
Теорий моих и вообще “наших идей”, как вы говорите, он не знает и вообще давно не имеет ни времени, ни сил читать. Но эпоху и людей он понимает превосходно, и психологически. Опыт его изумительный»308.
В другой раз, тоже в 1891 году, Леонтьев пишет о старце Амвросии: «Это удивительно тонкий ум, и именно в практическом направлении, а не в собственно мыслительном. Мудрость, скажу просто — даже ловкость батюшки отца Амвросия изумительны… Какая тут простота ума!., быстрая находчивость! Твердость характера, справедливость, прямота веры»309.
Леонтьев страдал той же болезнью, от которой скончался старец Макарий. Летом 1891 года ему было особенно плохо, старец Амвросий благословил его переселиться ближе к Москве, то есть ближе к хирургам, которые могли бы вдруг понадобиться для спасения жизни. Отец Амвросий говорил ему: «Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться — смирение»310. В августе он стал торопить его с отъездом в Троице-Сергиеву Лавру. «А если бы он сказал: “Не ездите и готовьтесь здесь умирать” (как он иным и говорит иногда), то я, конечно, остался бы», — писал Леонтьев311. Он чувствовал, что здесь кроется и еще что-то. «Старец как-то особенно настойчиво выпроваживал меня к Троице. Почему — не понимаю. Явный повод, конечно, близость специалистов по моей болезни, могущей причинить слишком лютую смерть. Но что-то подозревается и тайное, а что — не знаю»312.
10 октября 1891 года скончался старец, а 12 ноября умер и Леонтьев, которого похоронили в Гефсиманском скиту. Что касается русских писателей относительно их связей с Оптиной пустынью, то среди них были в основном изредка заезжавшие и эпизодически обращавшиеся к старцам. Но было несколько «своих», ставших близкими обители, принявших ее дух. Среди них — Иван Киреевский, Константин Леонтьев, позднее Нилус.
Теперь мы снова обратимся к «тихим подвижникам», к тем, которые завершили свой монашеский молитвенный путь в 1880-е годы и о которых по большей части нет других сведений, чем те, которые еще можно было в 1920-е годы прочесть на братском кладбище монастыря на могильных плитах и крестах. Краткие надписи эти не лишены поучительности и побуждают внимательного читателя к глубоким размышлениям о главном в духовной жизни человека. В них есть некая острая достоверность, неподдельность… Монашеское кладбище — великая духовная сила, что хорошо понимали представители новой разрушительной богоборческой власти, которые такие кладбища сметали с лица земли с особенной яростью. Это было сделано и с кладбищем монастыря, — едва-едва успела Надежда Григорьевна Чулкова списать с памятников то, что там было выбито, отлито или написано. Итак, вот очередное десятилетие из «Некрополя Оптиной пустыни» в примерном хронологическом порядке.
«Иеросхимонах Анатолий происходил из Харьковских мещан, именовался в мире Арсений Артемьевич Будковский-Будник. Поступил в сию обитель 1840 г., в монашество пострижен 1850… С 1861 по 1870 проживал в ските Троице-Сергиевой Лавры и на Угреше и более пяти лет в Иерусалиме — при Миссии в качестве духовника поклонников313. Был краткое время настоятелем Доброго монастыря, но по болезни отказался и мирно окончил дни свои в сей святой обители 1880 года февраля 18-го с христианским напутствием после тяжелой болезни 72-х лет. Старец отличался кротостью и любовью к ближним»314. «Под сим памятником погребено тело схимонаха Дометия. Скончался 12 апреля 1880 года, в Лазареву субботу, на 51 году от рождения. Уроженец города Новосиля, в мире Дмитрий Васильевич Казанцев. Поступил в Оптину пустынь в 1851 году 20 июля, в монашество пострижен 1866 г. 28 августа, в схиму 1880 г. 6 февраля. Отличался простотою нрава» (с. 8). «Схимонах Нифонт, в мире штаб-лекарь надворн. сов. Никита Афанасьевич Шереметевский. Поступил в сию св. обитель в 1863 г., в монашество пострижен 1872 г. Проходил послушание врача с большим знанием своего дела, отличался особенным усердием к посещению церковного богослужения и нищелюбием. После продолжительной и тяжкой болезни, около 2 лет благодушно им претерпенной с упованием на милосердие Божие, мирно скончался в великом ангельском образе св. схимы 14 декабря 1880 г. на 65 г. от роду. На Тя, Спасе, надежды возлож, Ты же, Господи, ущедри его яко Бог многомилостив» (с. 79). «Часовщик иеромонах Виталий скончался 1881 г. мая, 83 лет. В мире Василий Карих из мещан г. Щигров Курской губ. Поступил в Оптину пустынь 1825 г., в монашество пострижен 1832 г. апреля 3, в иеродиак. 1833 г. 9 июля, во иеромон. 1846 г. авг. 24. На колокольне устроил боевые часы» (с. 75). «Иеросхимонах Пимен, родом малоросс, скончался 1 сентября 1881 г. 76 лет от рождения, из которых 49 провел в Оптиной пустыни. В продолжение своей монастырской жизни он имел такую ревность и усердие к церковным службам, как никто другой. После утрени готовящимся всегда читал правило ко Святому Причащению. За кротость и смирение любим был всеми. Замечания настоятеля и прочих принимал без всякого самооправдания, а сложа на груди крестообразно руки, смиренно просил простить его и помолиться о нем. И за такой образ жизни оставил по себе благую память и благое и назидательное впечатление во всех знавших его» (с. 71–72)315.
«Иеросхимонах Никандр, родом из Московских купцов. Поступил в обитель 25 лет. Шесть лет был келейником о. архимандрита Исаакия. Скончался 19 октября 1881 г. 48 лет от роду. Трудился он много, добросовестно и в простоте сердца. В путь узкий ходшим прискорбный вси в житии крест яко ярем вземшии и Мне последовавшии верою приидите насладитеся ихже уготовал вам почестей и венцев нетленных» (с. 66–67). «Иеросхимонах Иероним, в мире Иван Николаевич Побойник из Великолуцких граждан. Поступил вначале в скит сей св. обители в 1863 г. 8 июля, в монашество пострижен 1870 г. июня 17, рукопол. во иеродиак. 1879 г. июля 27 дня, в иеромонаха 1881 г. авг. 1 дня. Скончался о Господе в уповании на милосердие Божие после тяжелой болезни 1882 г. авг. 18 дня. Постригся во время болезни в схиму. Кончину стяжал мирную, христианскую. Отличался особой ревностию в прохождении послушаний. Твой есмь аз, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках. Призри на мя и помилуй мя по суду любящих имя Твое» (с. 66).
«Иеродиакон Пафнутий (Шкотов), жительством гор. Орла из мещан, в монашестве прожил 20 лет, скончался 1882 г. дек. 7 дня на 52-м году» (с. 79). «Иеромонах Исаия, из Чернских мещан, Иван Гаврилович Иноземцев. Поступил в сию обитель 184(?) г. и долгое время проходил послушание сборщика и усердно послужил на пользу обители. Около 5 лет был настоятелем Доброго монастыря, улучшил его материальное состояние. По болезни ног от настоятельства отказался в 1882 г. и окончил дни свои мирно в обители сей 1883 г. 7 января 63 лет. В болезни был напутствован Св. Таинами 19 дней сряду. Отличался трезвенной жизнью и усердием к послушанию. В покоищи Твоем Господи идеже вси святии Твои упокоеваются упокой и душу раба Твоего яко Един еси Человеколюбец» (с. 65–66). «Монах Феоктист происходил родом из Тульских мещан. В обители сей в Оптиной пустыни жил 44 года, лет двадцать пять был гостинником, имел ко всем благоприветливость и услужливость. В монашестве был смирен и нестяжателен. Был болен шесть недель, принял схиму и за час до смерти причастился Св. Таин в Светлый Понедельник 18 апреля 1883 года. Жития его было 74 года» (с. 8).