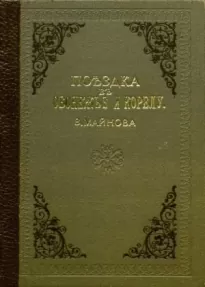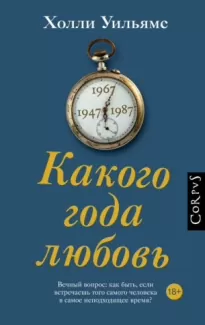Афанасий Фет
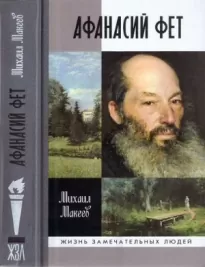
- Автор: Михаил Макеев
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2020
Читать книгу "Афанасий Фет"
Постоянная жизнь в Москве и породнение с семейством Боткиных, естественно, повлияли на характер фетовского окружения, несколько изменившегося во второй половине 1857-го — 1858 году. Он познакомился и близко сошёлся со знаменитым врачом Павлом Лукичом Пикулиным, женатым на младшей сестре Марии Петровны Анне. Свояк проживал в собственном большом доме на Петровском бульваре; ставший в нём своим человеком, встречал там оставшихся в Москве членов круга тогда уже покойного Грановского: шумного и бесцеремонного Николая Христофоровича Кетчера, «широко образованного и изящного» Александра Владимировича Станкевича (брата легендарного друга и наставника Белинского и Бакунина Николая Станкевича), «остроумного» редактора и журналиста Евгения Фёдоровича Корша и «далеко не изящного собирателя сказок» Александра Николаевича Афанасьева. Все они в это время активно подвизались в литературе: Корш, разошедшийся с Катковым, собирался издавать либеральный журнал «Атеней» (издателем-редактором которого он будет в 1858—1860 годах), Афанасьев в 1858 году стал редактором журнала «Библиографические записки», основанного Николаем Михайловичем Щепкиным, сыном знаменитого актёра. Станкевич активно сотрудничал в журналах приятелей, а впоследствии написал вызвавшую большой резонанс книгу о Грановском. Все они были люди потенциально полезные, но на Фета большого впечатления кружок не произвёл, и никакого «сотрудничества» с его членами не возникло: «Разнообразных членов Пикулинского кружка, видимо, привлекала не нравственная потребность высшего умственного общения, а то благодушное влечение к шутке, оставшееся в наследство от Грановского, которому нигде не было так по себе, как в кабинете добродушного Пикулина»362.
Возобновил знакомство Фет и с семьёй знаменитых славянофилов Аксаковых, из которых в этот раз понравился ему только отец, Сергей Тимофеевич, автор книги «Детские годы Багрова-внука»; славянофильская пропаганда не производила на поэта никакого впечатления. Намного более важным было его сближение с семейством графов Толстых, проживавшим тогда в Москве на Пятницкой улице, поблизости от его собственной квартиры. Поэт очень ценил знакомство с сестрой писателя Марией Николаевной, «пианисткой и любительницей музыки», постоянно посещавшей его «четверги», и практически «влюбился» (впрочем, как все, знавшие его более или менее близко) в Николая Николаевича, непререкаемого авторитета для своего гениального брата, привлекавшего благородством, добротой, кристальной честностью, а также ореолом трагизма, которым окружала его болезнь, вскоре приведшая к преждевременной смерти. Но наиболее важным, конечно, было общение с Львом Николаевичем, находившимся на развилке и своего духовного пути, и литературной карьеры, представавшим ещё в виде франта «в новой бекеше с седым бобровым воротником, с вьющимися длинными тёмно-русыми волосами под блестящею шляпой, надетой набекрень, и с модною тростью в руке»363, о котором Николай периодически сообщал: «Левочка опять надел фрак и белый галстух и отправился на бал»364.
Толстой нравился Фету и раньше, во время общения с «весёлым обществом», независимыми суждениями, но сблизиться с ним поэт не пытался; теперь же возникла настоящая дружба. В письмах этого времени граф обращается к своему адресату «драгоценный дяденька», «дяденька Фетинька» и даже «душенька дяденька Фетинька». Фет, по-настоящему восхищавшийся писателем, называл его сдержаннее: «милейший Лев Николаевич», иногда «голубчик Лев Николаевич». Толстой чрезвычайно высоко ценил творчество Фета и ещё до их сближения в письме Боткину от 12 июля 1857 года выразил неподдельное удивление и восхищение: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берётся такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов»365. Он даже брался протежировать Фету, не раз рекомендуя Некрасову публиковать его лирику.
Именно Толстой, вставший на позиции чистого искусства, начал втягивать Фета в литературную борьбу. Продолжая печататься в «Современнике» и не порывая с Некрасовым, Толстой в это время сблизился с Дружининым и стремился чуть ли не возглавить «пушкинское» направление в литературе — опубликовал повести «Альберт» и «Люцерн». Он видел в Фете единомышленника и практически вынуждал его к активной деятельности. Под влиянием бойцовской натуры Толстого Фет с энтузиазмом поддержал его план издавать журнал и даже, кажется, несмотря на ограниченность своих средств, согласился принимать участие в его финансировании; впрочем, позднее в письме Боткину он отрицал, что хотел вложить в это дело свой капитал, и утверждал, что деньги на издание ему «предлагали». О программе журнала Толстой писал тому же Боткину 4 января 1858 года из Москвы: «Что бы Вы сказали в теперешнее время, когда политический грязный поток хочет решительно собрать в себя всё и ежели не уничтожить, то загадить искусство, что бы Вы сказали о людях, которые бы, веря в самостоятельность и вечность искусства, собрались бы и делом (т. е. самим искусством в слове) и словом (критикой) доказывали бы эту истину и спасали бы вечное независимое от случайного, одностороннего и захватывающего политического влияния? Людьми этими не можем ли быть мы? Т. е. Тургенев, Вы, Фет, я и все, кто разделяют и будут разделять наши убеждения. Средство к этому, разумеется, журнал, сборник, что хотите. Всё, что является и явится чисто художественного, должно быть притянуто в этот журнал. Всё русское и иностранное, являющееся художественное (так в оригинале. — М. М.), должно быть обсужено. Цель журнала одна: художественное наслажденье, плакать и смеяться. Журнал ничего не доказывает, ничего не знает. Одно его мерило образованный вкус. <...> Деньги для издания дадим все — Тургенев, Вы, Фет и я и т. д.»366.
Как и Толстой, Фет верил в возможность коммерческого успеха такого предприятия. Ещё раньше, 27 декабря 1857 года, он писал тому же Боткину: «...Ты совершенно прав, объясняя теперешнее направление вкуса... Вообрази, что сочинений Щедрина вышло и разошлось 6000 эк[земпляров] и граф[ини] Ростопчи[ной] после нашего свидания в Петербурге было уже ещё издание и в огромном числе экземпляров. Ну что это значит? У Щедрина, пожалуй, есть воровство и взяточничество, а у неё, кроме полной чепухи, ничего нет. Отчего же её так алчно покупают?» Предполагаемый редактор журнала, более трезвомыслящий Боткин, ответил 25 января (6 февраля) 1858 года: «Да неужели вы с Толстым не шутя затеваете журнал? Я не советую, — во 1-х, в настоящее время русской публике не до изящной литературы, а во 2-х, журнал есть великая обуза — и ни он, ни ты не в состоянии тащить её». Но убеждённый Фет просил в предполагаемый журнал статьи самого Боткина об итальянской живописи, на что тот с некоторым опозданием ответил уже из Лондона 19 июня (1 июля): «Журнал твой не пойдёт, да и не нужен он. А деньги потратятся»367.
Другие потенциальные сотрудники журнала, который предполагалось назвать «Лира», думали примерно так же, сомневаясь и в том, что издание с такой программой будет востребовано, и в способности Фета к ведению такого трудного предприятия, требовавшего не только расчётливости и усидчивости, но и, как выразился едва ли не наиболее резко отзывавшийся о замысле Д. В. Григорович, «нравственного влияния» на будущих сотрудников. Опытный журналист Дружинин в письме Толстому от 15 мая 1858 года предрекал замыслу полный провал: «Мне сказывал Григорович, что будто бы Фет мечтает о новом журнале и, что хуже, думает дать на него свои деньги. Защитите его от такой беды (если слух справедлив) и объясните ему, что в теперешнее время журнал может удаться лишь... при двух условиях: 1) огромном основном капитале, который дал бы средство терпеливо ждать внимания публики, и 2) при неутомимой ярости участников по части работы»368. Возможно, у Толстого и Фета хватило бы «ярости», но капиталов и «живых» сил явно недоставало. В результате ни план издания нового журнала (как хотел Фет), ни аренда «Современника» (о чём мечтал Толстой) или «Библиотеки для чтения» (что предлагал Дружинин) не осуществились.
Дружба Фета с Толстым сохранилась надолго, в отличие от столь тесной идейной близости. Увлечение Толстого «чистым искусством» было одним из этапов его своеобычного, изобилующего изломами духовного пути, реакцией на политические общественные процессы, результатом недовольства собой, очередной попыткой как-то оправдать существование литературы и искусства. Для Фета же вера в идеалы «чистого искусства» была абсолютно органична, сложилась едва ли не с детства, существовала независимо от текущих литературно-общественных баталий, и никто и ничто не смогло поколебать её до конца его жизни. Эту веру он выразил в первой критической статье «О стихотворениях Ф. Тютчева», опубликованной во втором номере нового журнала «Русское слово» (издававшегося тем самым неприятно поразившим Фета графом Кушелевым-Безбородко), куда его привёл старый друг Полонский, в то время один из редакторов журнала.
В этой знаменитой статье, по сути, нет ничего нового для Фета, высказанные там мысли восходят к его ещё университетскому чтению Винкельмана и Шеллинга. Однако в новой ситуации эти идеи принимают форму почти политическую; Фет не только формулирует их, но намеренно придаёт им заострённую форму. Он сразу заявляет: «...вопросы: о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о её нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался» — и переходит к тому, что считает сущностью и назначением искусства: «Поэзия, или вообще художество, есть чистое воспроизведение не предмета, а только одностороннего его идеала; воспроизведение самого предмета было бы не только ненужным, но и невозможным его повторением. У всякого предмета тысячи сторон... художнику дорога только одна сторона предметов: их красота, точно так же, как математику дороги их очертания или численность». Поэт может избирать любые предметы для изображения, поскольку «мир во всех своих частях равно прекрасен»: «Дайте нам прежде всего в поэте его зоркость в отношении к красоте, а остальное на заднем плане»369. Особенно эпатирующим выглядело безапелляционное заявление, что не только создание произведений искусства, но и способность получать от них подлинное наслаждение — удел избранных. Фет шёл намного дальше других защитников «чистого искусства» — не только Григорьева, для которого вопрос «оправдания» искусства был не праздным, но и Боткина с Дружининым, стремившихся принять более «широкую» точку зрения, признавая за искусством обличительным, посвящённым общественным проблемам определённое, хотя и ограниченное значение.
Фет не ограничился декларациями, а высказал ряд соображений, характеризующих его собственные поэтические принципы. Большое место занимают рассуждения об «объективности» подлинного художника: «Пусть предметом песни будут личные впечатления: ненависть, грусть, любовь и пр., но чем дальше поэт отодвинет их от себя как объект, чем с большей зоркостью провидит он оттенки собственного чувства, тем чище выступит его идеал». Эту удалённость от личности художника воплощает искусство Пушкина: «Я не говорю, чтобы творения (дети) могучих художников не имели с ними и между собой кровного сходства; возьмите нашего Пушкина, вы по двум стихам узнаете, чьи они; но строгий резец художника перерезал всякую, так сказать, внешнюю связь их с ним самим, и воссоздатель собственных чувств совладел с ними как с предметами, вне его находившимися. Каким образом происходит подобное раздвоение чувства и зоркого созерцания? — тайна жизни, как и самая жизнь». В парадоксальной форме высказывает Фет и давнюю шеллинговскую мысль о соединении в творчестве гения порыва и расчёта: «Лирическая деятельность тоже требует крайне противуположных качеств, как, напр., безумной, слепой отваги и величайшей осторожности (тончайшего чувства меры). Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик. Но рядом с подобной дерзостию в душе поэта должно неугасимо гореть чувство меры»370.