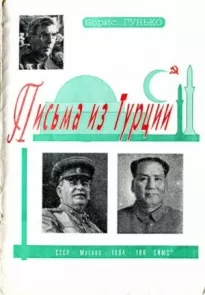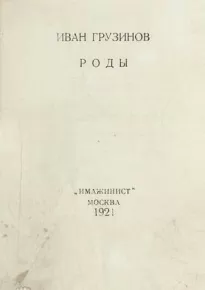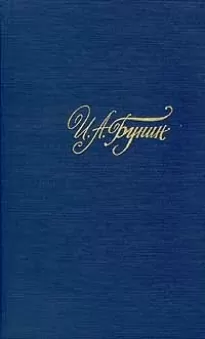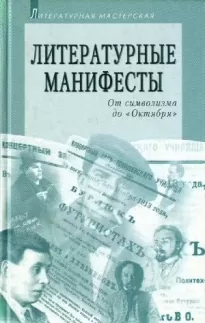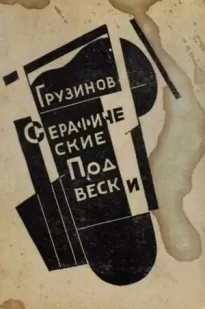Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953
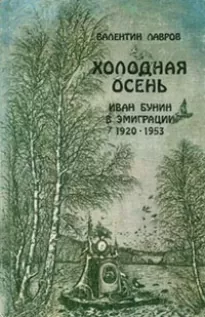
- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Биографии и мемуары / Публицистика
Читать книгу "Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953"
Представьте только зимнюю Москву начала века; молодость, льстящая самолюбию известность, рестораны, литературные кружки, публичные чтения, громкие овации, цветы, легкость и беззаботность жизни…
Я был в упоении от жизни. Свои отношения с Любой воспринимал как должное. И вот однажды, незадолго перед сочельником, я устроил Любе скандал — так, из-за какого-то незначащего пустяка, из неловкого слова.
— Раз так — прощайте! — крикнул я ей, и словно в то мгновение бес вошел в меня. Я стал делать одну глупость за другой. Бросил все дела, взял плацкарту в спальном вагоне теплого и уютного экспресса Москва — Вена и ни с того ни с сего покатил почему-то в Ниццу. (Отдаленные реминисценции этой поездки можно найти в «Генрихе», включенном в «Темные аллеи».)
Вдруг нежданная встреча — на моем пути попался старый друг, известный в то время драматург Найденов, автор нашумевшей пьесы «Дети Ванюшина». Тот тоже толком не знал, зачем его занесло в «Европы». Дальнейшее путешествие мы продолжали, понятно, вместе. Проезжая через Тироль, при виде старинных замков он все время отплевывался и недовольно бормотал:
— Тьфу, пропади… И кому это нужно! А наши-то небось у Телешова сидят, чай пьют. Кой черт меня сюда занес! — и так всю дорогу.
Хотя в Ницце остановились мы в лучшей гостинице (давно заметил, что наши соотечественники предпочитают дорогие гостиницы, пусть даже не по средствам, а иностранцы, даже богатые, все высчитывают — как экономней!), стояла великолепная солнечная погода, нарядная праздничная толпа, море — ничего Найденова не утешало. Хотел познакомиться с пленившей его сердце француженкой, да, кроме «силь ву пле», ничего сказать он не умел. Это окончательно повергло его в отчаяние.
— Едем домой! — начал он звать меня. — Хоть бы борщ с пирожком на границе откушать, — все твердил Найденов.
Честно говоря, и мне безумно хотелось домой. Разлука с Любой терзала меня. Скачки по Европе меня отрезвили. Вернулись так же нелепо, как отправились в путь. Чуть не с вокзала я помчался к Любе.
Она приняла меня холодно, с оттенком презрения. Моей эскапады она так и не простила. Как долго я страдал, да и нынче, поверьте, испытываю что-то вроде огорчения.
— Всю жизнь я повторяю слова блаженного Августина: «Господи, пошли мне целомудрие, но только не сейчас…» Эта фраза меня всегда умиляла, до чего же она прекрасна, — закончил Иван Алексеевич.
В другой раз он признался, что записывать виденное или использовать какие-то реальные события в сюжетах рассказов противно его природе.
— Я умею только выдумывать, — убеждал Бунин собеседника. — Как-то на «Жаннет» приехала родная внучка Толстого — Татьяна Львовна. Она сумела меня упросить: я прочитал для нее рассказ «Баллада».
— Иван Алексеевич, — удивилась та, — где вы выкапываете такие истории? Ведь придумать этакое немыслимо…
Бунин кисло усмехнулся, вспоминая об этом; он очень не любил подобные вопросы, считая их «залезанием в его душу».
— Постоянно меня спрашивают об этом! Точно я где-то что-то подслушал и потом взял перо и занес на бумагу. Нет, все, о чем я пишу, я выдумываю сам. Всю фабулу той же «Баллады» я сочинил, сидя у себя дома на Оффенбаховой улице. Деньги были дозарезу нужны. Я и заставил себя написать рассказ. Дело простое, обычное. Но ведь в этом рассказе все в пределах вероятного.
Иное — «Дело корнета Елагина». Это один из моих немногих рассказов, заимствованных из газетной хроники. Я много по-своему переделал, но в основе сюжета лежит нашумевший некогда процесс артистки Весновской. Он слушался в варшавском окружном суде. Убийцу защищал «сам» Плевако. Знаменит этот адвокат был необыкновенно. Один из первых русских полнометражных фильмов назывался «А защищал ее Плевако», причем главную роль исполняла знаменитая Вера Холодная. Процесс был шумный, прогремел на всю Россию. Вот, видите, я покаялся… Зато все остальное, в том числе «Жизнь Арсеньева», в основном выдумал.
— Я когда-то усердно собирал частушки, прибаутки, народные пословицы, — рассказывал как-то Бунин. — Это сущий клад для писателя. И сколько их ни записывай, все равно всего не запишешь.
Был у меня один деревенский паренек, обучил его искусству записывать. Обещал, что за каждую новую запись он станет получать по копейке. У меня была почти уверенность, что этот талантливый самородок многое сочинял сам, очень талантлив был…
Как-то он приехал в Москву, ночевал у меня. Я его спросил: «Москва понравилась?»
— Ничего, только ветвей нету…
Дал я ему на прочтение «Смерть Ивана Ильича». Спрашиваю:
— Прочел?
— Прочел.
— Ну, понравилось?
— Очен-но понравилось, там буфетный мужик большие деньги загребал…
Что касается частушек и прибауток, собрал я их около одиннадцати тысяч. Не знаю, уцелели ли они, в Москве остались с моими бумагами.
Позже Бунин протянул тетрадь Бахраху:
— Вот для вас, обучайтесь прибауткам…
Бахрах назвал их «остроумными и выразительными», но, добавил он, «напечатать их неудобно».
— Терпеть не могу букву «ф»! — признался как-то Иван Алексеевич. — Мне даже выводить на бумаге ее неприятно и трудно. В моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. Почему? Сам не знаю.
Кстати, меня при крещении чуть не нарекли Филиппом. В последнее мгновенье спасла меня нянька. Священник уже стоял у купели, нянька прибежала к матери:
— Это что делают! Разве для барчука это имя? У нас плотник пропойца тоже Филипп!
Думать было некогда. Второпях назвали меня первым пришедшим в голову именем — Иваном, хотя это тоже не слишком изысканно. Именины мои приурочили ко дню празднования перенесения мощей Иоанна Крестителя из Гатчины в Петербург. Так, строго говоря, и живу я без своего святого… Но, прости Господи, по сей день недоумеваю: каким образом рука Иоанна Крестителя, которую — вернее мощи которой, тогда переносили, могла вдруг оказаться в Гатчине?
Представляете, если бы это случилось — я назывался бы «Филипп Бунин». Тьфу, как «филипповская булочная»! Из-за такого гнусного созвучия я, вероятно, и печататься никогда бы не стал,
Да, чуть не забыл — еще об именах. Наш древний род значится в шестой родословной книге дворянства. Но как-то гулял я по Одессе и наткнулся на вывеску «Пекарня Сруля Бунина». Каково!
Кто-то заметил Бунину: «Даже трудно поверить, что среди нас человек, переписывавшийся с Толстым, друживший с Чеховым… Ведь это кажется совсем другим веком, другой эпохой!»
Иван Алексеевич рассмеялся: — Это еще что! Помню действительно потрясающую встречу. Я только-только был избран в академики и новичком приехал на заседание. Сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Около меня осталось пустовать место.
Заседание началось, и тогда двери распахнулись и вприпрыжку вбежал хилый, сгорбленный старичок, опиравшийся на костыль. Ну, истинно живые мощи! Я не знал, кто это, но, кажется, это был знаменитый физик и химик Николай Николаевич Бекетов, родившийся во времена, когда Пушкин был еще молодой. Я поразился его одеянием — какой-то странный белый балахон, похожий на ночную сорочку.
Впрочем, сей странный туалет никого не смутил: почет ему был оказан чрезвычайный. Все приветствовали его стоя.
Проковыляв по конференц-залу, академик уселся со мною рядом.
Надо сказать, что в Академии мы были чрезвычайно вежливы и почтительны, иначе, как «ваше превосходительство», друг друга не называли.
Старичок мой прищурился, кашлянул и наклонился ко мне: «Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такой же ливень был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок тогда я и простудился… А вы?»
Можете представить мое состояние: Бекетов говорил о похоронах Крылова, а они состоялись в 1844 году.
Над Грасом разразилась снежная буря, выпал необычно глубокий снег. Дует пронизывающий ветер. Вдоль дороги, по канаве, обычно чуть влажной на дне, на сей раз шумит поток тающего снега.
Иван Алексеевич, забиравшийся на гору, где стоит его жилище, продрогший, тяжело дышащий, вдруг распрямляется и начинает декламировать:
— Удивительно хорошо! — с восторгом произносит Бунин. — Невозможно сказать ярче и короче. Каждый раз, вспоминая какие-нибудь пушкинские строки, ощущаю, что впадаю в столбняк. Немею от восторга, от удивления. Во всей мировой литературе не найти ничего даже отдаленно похожего. Что можно нового сказать о Пушкине? Ничего! Можно лишь повторить давно истертые эпитеты и восклицания. Он уже давно перестал быть литературным фактом. Он вошел во всю нашу жизнь.
Должно быть, есть в природе вещи, о которых мы даже не догадываемся. А то как же могло случиться, что какой-то негодяй неизвестными путями и неизвестно зачем проникает в Россию, делается родственником Пушкина, а затем убивает его. Нет, умом такое понять невозможно!
Однажды, на каком-то приеме Анри де Ренье[70] завел со мной разговор на разные темы. Был он в широком старомодном фраке, с пышными галльскими усами, еще не старый — было это в году тридцатом. Мы курили, говорили о пустяках, вдруг он произнес:
— Вы, вероятно, не любите Дантеса. В молодом возрасте он убил на дуэли вашего поэта Пушкина (он произнес — «Пуськина»). А Дантес мне приходится родней. Что он мог сделать? Его оскорбили. Он защищал свою жизнь.
— Какая бестактность! Мог бы и не говорить мне таких вещей. С той поры я избегал с ним встреч[71].
…Для Бунина Пушкин был полубогом, человеком вне законов, недосягаемым и грандиозным. Все, что Пушкина окружало, каким-либо образом было связано с ним, все это для него священно. Но это не мешало ему по-настоящему восторгаться Лермонтовым, причем, по утверждению Бахраха, прозой больше, чем поэзией. Более того: в начале тридцатых годов собирался писать «романсированную биографию» Лермонтова. Об этом было даже объявлено в печати.
«Последние месяцы своей жизни Иван Алексеевич тоже часто цитировал и стихи Пушкина и Лермонтова, особенно я любила слушать «Выхожу один я на дорогу»… И как он читал это! Но всегда говорил, что конец хуже. Он вообще перед своей кончиной очень мучился смертями и Пушкина и Лермонтова и бесконечно говорил об этом…» (Из письма В. Н. Буниной в Москву 8 марта 1959 года.)