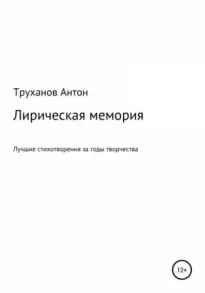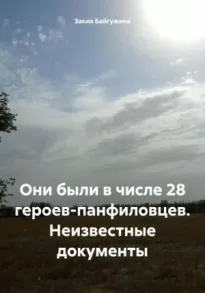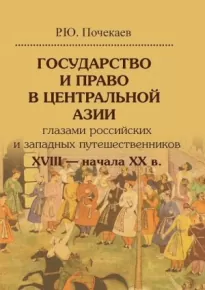Истоки инквизиции в Испании XV века
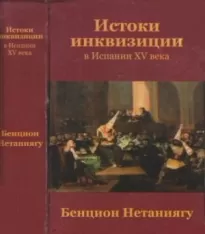
- Автор: Бенцион Нетаньяху
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2015
Читать книгу "Истоки инквизиции в Испании XV века"
Итак, для Картахены деление общества обозначено или выражается в роде занятий, или, точнее, в функции, которую каждая группа выполняет в совокупности социальной экономики. Но выполнение этих функций связано с определёнными талантами, возможностями и предрасположением, которые наследственны. Конечно, «как все преходящие вещи, благородство можно приобрести или утратить», что означает, что качества, присущие благородству, могут быть ослаблены или вообще утеряны при определённых обстоятельствах, в то время как, с другой стороны, они могут взойти и развиться из определённых импульсов и таким образом проявиться у плебеев. Это, однако, случается очень редко и должно рассматриваться скорее как исключение, а не правило. Отсюда, род занятий и стремления предков той или иной личности являются обычно указанием на её собственные качества, так же как и на её принадлежность к определённому классу.
Мы тем не менее должны отметить ещё один момент, чтобы правильно определить взгляды Картахены. То, что он считает естественными качествами, которые определяют социальные различия и разделения, не ограничивается чьими-либо талантами или способностью освоить то или иное ремесло: они включают в себя также моральные наклонности и способность жить по этическим стандартам. Итак, он рассматривает четыре кардинальных достоинства — благоразумие, справедливость, мужество и умеренность — основанных, прежде всего, на естественных склонностях или, по крайней мере, весьма поддержанных последними. Как факт он рассматривает долю человеческой природы во владении этими и аналогичными склонностями настолько большой — и на деле настолько решающей, — что определяет благородство, отмеченное присутствием этих качеств, не только «моральным», но также и «естественным»[1706]. Таким образом он, похоже, подходит близко к мнению о том, что человеческие моральные качества передаются по наследству, то есть к мнению толедцев. Однако разница между их взглядами перевешивает сходство. Согласно Картахене, по наследству передаются не добродетели — они являются достижением каждого человека, — а предрасположенность к ним. Эти предрасположенности не являются чем-то неизменным, человек может своей волей склонить их в ту или иную сторону, их можно развить самовоспитанием или испортить дурными привычками, и они могут стать объектом влияния соблазнов или, наоборот, веры. Тем не менее, поскольку предрасположенность к добродетелям может быть полезной в их приобретении, мы можем классифицировать людей по их моральным предрасположениям, которые не распределены между нами равномерно. Короче, разнообразие наклонностей к добродетелям не меньше, чем разнообразие людских талантов и возможностей, может помочь расположить людей на различных социальных уровнях и разных ступенях социальной иерархии.
То, что Картахена действительно думал так, становится очевидным из сходства, которое он видит между обществом, санкционированным Церковью, и членами живого организма. «В обществе Церкви, которое является «телом Христа», от всех его членов, — утверждает он, — ожидается безграничное уважение, любовь и поддержка друг друга, но неизбежно и то, что некоторые из них пользуются бóльшим почётом, потому выполняемые ими функции свидетельствуют об их исключительности. Так же как глаз не может сказать ноге: «не будь членом», хотя если мы рассматриваем функции глаза, то видим, что эта функция более возвышенная, деликатная и более уважаемая, так же и в церковном организме его верные религии члены имеют различные функции. Некоторые из них аналогичны глазу, другие — языку, третьи — рукам и ногам и т. д. И таким образом кто-то в силу того факта, что он выполняет более высокую функцию или более прославлен своей знатностью или ещё каким-либо отличием, может получить больше почёта, чем другой. Тем не менее каждый верующий [христианин], откуда бы он ни пришёл, является полным и признанным членом [общества], который поставлен на подходящее место под руководством Церкви»[1707].
Мнение, что каждый член социального коллектива должен выполнять те функции, для которых он более всего пригоден, и, соответственно, он должен принадлежать к «классу» равных себе, коренится, несомненно, в философии Платона[1708]. Но при построении своей теории об основном делении на два класса — «благородных» и «низких» — Картахена скорее следовал принципам Аристотеля, а не Платона. Так, указывая на Аристотеля в качестве своего авторитета, он говорит: «Те, кто слабее в своей способности суждения, должны руководствоваться теми, кто мудрее, и, поскольку они находятся под властью других, сказано, что они в определённом смысле рабы»[1709]. Конечно же, дон Алонсо, должны мы добавить, не разделял Аристотелева оправдания рабства, то есть рабства в полном смысле слова, поскольку, будучи учеником римских юристов, он принимал их тезис о том, что «все люди рождены свободными» и что рабство имеет «социальную», а не «естественную» природу[1710]. Но что касается разделения между двумя типами людей по их способности управлять, он принял это разделение с важным добавлением: люди также разнятся в своих склонностях к добродетелям, и именно это лежит в корне различия между «знатными» и «плебеями». Совершенно очевидно, что в глазах дона Алонсо эта разница часто передаётся по наследству, что образует базис для знатных семей, а в более общем плане — для класса знати. Таким образом, мы видим, что в теории дона Алонсо встречаются две несходные социальные теории — Отцов Церкви и Аристотеля. Одна базируется на религиозном идеале, а вторая — на природе и её конкретных проявлениях. Одна отрицает все принципиальные различия («ни грек, ни иудей, ни раб, ни свободный, ни мужчина, ни женщина»), другая признаёт эти отличия и рассматривает их признание и даже продвижение как способствующее благу общества. Тем не менее одно различие, а именно — этническое, было им отменено как излишнее и вредное, а посему должно быть игнорировано.
Но позиция Картахены отличается от идей Платона и в другом важном пункте. Мы отметили, что «классификация» каждого человека должна быть сделана, согласно дону Алонсо, «под руководством Церкви», чья «мудрость» заменяет, по концепции Картахены, короля философии Платона. Наделе, однако, это «руководство Церкви» вряд ли рассматривалось им как решающий фактор. В его глазах, вне сомнения, важнее выглядела наследственность человека или его расовая принадлежность, причём настолько, что он счёл возможным провозгласить это как несомненный факт и моральный постулат: «Более высокие, знаменитые и благородные люди [среди тех, кто пришёл к вере] сохранят в Церкви своё полное превосходство и неизменное почтение к себе и своим семьям»[1711]. Итак, классовое разделение перенесено в христианство из нехристианского мира полностью и автоматически, под «руководством» Церкви, выраженном в заранее обеспеченном согласии[1712].
Может ли определение нехристианской группы — будь то язычники, мусульмане или евреи — в отношении её позиции в обществе быть навязано Церкви? Мы можем принять как данность, что Картахена был убеждён в том, что склонности и потенциал определяют призвание человека, а соответственно, и его социальный класс, и то, что они приобретаются по наследству в нехристианском мире так же, как и в христианском[1713]. Но опять можно спросить, нет ли у христианства своей системы оценок различных склонностей и добродетелей, согласующейся с его отличным от других жизненным идеалом? Картахена не задаёт этот фундаментальный вопрос, ответ на который может противоречить его поддержке принципам старого социального размежевания — вопроса, существующего в нехристианском мире. Он просто продолжает оправдывать их принятие на основе фактов, какими он их знал — то есть на базе традиций и практики Церкви, которые с точки зрения христианской теологии были так же действительными и обязывающими, как и любая освящённая доктрина[1714].
Эта опора на традиционную позицию Церкви, при уважении к превалирующей социальной структуре, была абсолютно необходима Картахене, поскольку теоретически он, конечно, не мог примирить принятые им два конфликтующих принципа. Утопичный мир любви и равенства, к которому стремилось, как он уверял нас, христианство, находился на другом полюсе по отношению к феодальной Европе, в которой царило неравенство. В этом реальном мире классовое сознание было господствующим, а разделение общества на группы по наследственному признаку было непреложным фактом, который никто не пытался оспаривать и который доминировал в политике и экономике. Представляя это классово ориентированное общество как полностью приемлемое для Церкви, дон Алонсо, тем не менее, не оправдывал существующий порядок просто ради него самого. Он делал это и потому, что некоторые из вопросов были тесно связаны с проблемой, которой он занялся — проблемой, поднятой в «Толедском статуте», — и потому что отсутствие расовой дискриминации, как он это видел, само по себе не являлось достаточным для того, чтобы удовлетворительно разрешить проблему[1715].
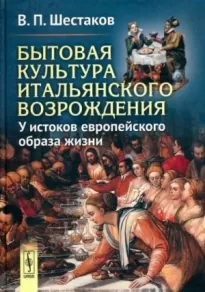
![Замечательные числа [Ноль, 666 и другие бестии] (Мир математики. т.21.)](/uploads/covers/2023-04-13/zamechatelnye-chisla-nol-666-i-drugie-bestii-mir-matematiki-t21-201.jpg-205x.webp)