Литературная черта оседлости. От Гоголя до Бабеля
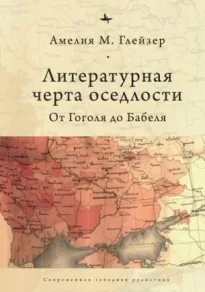
- Автор: Амелия Глейзер
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2021
Читать книгу "Литературная черта оседлости. От Гоголя до Бабеля"
Шепоты из кучи
Рыночная площадь является точкой великого перелома и для Маркиша. Однако у него этот перелом оказывается насильственным и необратимым. Первые намеки на связь между коммерцией и смертью появляются в его стихах еще в 1917 году: «Что вы покупаете – трупы, лохмотья?.. Купи мою голову за грошик» [Shmeruk 1964: 382]. «Куча» начинается с посвящения жертвам погрома, случившегося в 1920 году:
Вам, жертвы Украины,
где земля полна вами,
а также вам, закопанным в «кучу»
в Городище-на-Днепре,
Кадиш!
Nokh aykh, harugim fun Ukraine,
vu ful mit aykh di erd iz,
un oykh nokh aykh, geshakhtene in «kupe»,
in Horodishtsh der shtot baym Dnieper,
kadesh!
[Markish 1922: epigraph].
Центральное место в поэме Маркиша занимает груда тел – жертв недавнего погрома – на центральной площади штетла. «Куча» датирована 11 тишрея 5681 года (23 сентября 1920 года) – это следующий день после Йом-Кипура. Эта куча в ходе состоящего из 24 частей повествования будет как объявлена «новой молельней» (отсылка к еврейской литургической традиции), так и распята на кресте, являющемся для евреев символом одновременно и мученичества, и погрома. После большевистской революции и Гражданской войны на Украине образ местечка и его центральной площади наполнился новым смыслом, и в произведениях того времени отчетливо прослеживается идея о том, что самым ходовым товаром теперь стало насилие. В «Куче» раскиданные по всей площади товары метонимически изображают весь разрушенный еврейский мир. Итальянские футуристы и в какой-то степени их русские и восточноевропейские собратья с восторгом приветствовали провозглашенную Ницше «гибель богов», но Маркиш описывает здесь гибель прихожан. Хотя, являясь революционным поэтом, Маркиш был поборником воинствующего атеизма, как еврей он оплакивает это местечко и выражает скорбь со всей силой своего поэтического дарования.
Куча тел находится в самом центре городской площади, где звучат обычные фразы и восклицания базарного дня, вот только самих торговцев больше нет. Для изображения этого пейзажа Маркишу не нужно было ехать в само Городище, где произошел описанный им погром. Достаточно было представить обычный пейзаж штетла: базарная площадь в центре местечка, на которой продают текстильные и скобяные товары и местные сельскохозяйственные продукты. Даже сейчас, сто лет спустя, в Украине есть 24 населенных пункта, носящих название Городище. Слово «городище» может относиться к любому местечку без конкретной географической привязки, поэтому можно предположить, что Маркиш имел в виду не какой-то отдельный погром, а всю их совокупность. Известен краткий отчет о погроме в местечке Городище Черкасской области, сделанный на заседании Еврейской секции ВКП(б) (Евсекции) в октябре 1919 года: возможно, Маркиш писал именно о нем[277]. Эпиграф поэмы, в котором содержится посвящение жертвам погрома, тоже свидетельствует в пользу предположения, что на написание «Кучи» Маркиша подвигло какое-то конкретное событие.
Свою длинную поэму Маркиш начинает с обращения к «небесному жиру» («kheylev himlsher»): «Не лижи, небесный жир, мои всклокоченные бороды» («lek nit, kheylev himshler, таупе farparte herd») [Markish 1922: sec. 1]. Повествование ведется от имени самой кучи, которая иногда звучит как хор голосов, иногда же из нее доносятся слова молитвы или обычные для базара фразы. Подобно зданиям и статуям, беседующим друг с другом в «Ночи» И.-Л. Переца, пейзаж, предметы и мертвые тела в «Куче» тоже вовлечены в общий диалог. Образ «небесного жира» (то есть свечи) может относиться к звездам, – и действительно, «небесный жир» («kheylev himlsher») Маркиша является отсылкой к его же «небесным звездам» («shtern himlshe»), которые «гасят себя» («leshn zikh oys») в цикле «Без цели» («Pust-un-pas»). После погрома на площадь опускается ночь. Звезды, как и свечи, ничем не могут помочь телам на земле[278].
Маркиш описывает груду трупов во всех ее страшных деталях. Растерзанные тела сливаются в единую массу:
Из моих ртов хлюпают коричневые реки дегтя,
О, коричневая лепешка из крови и расставания, нет!
Не трогай рвоту на черной ляжке земли.
Fun mayne mayler khlupen broyne ritshkes dzhiegekhts,
O, broyne roshtshine fun blut un fun gezegekhts,
nit! Rir nit dos gebrekh oyf shvartser dikh fun dr’erd
[Markish 1922: sec. 1].
Совмещая такие образы, как небесный свод с происходящим на нем ритуалом поминовения и картину бойни и рвоты, Маркиш сливает воедино две перпендикулярные друг другу линии, одна из которых устремлена в небо, а другая пролегла по черной земле, которая, как он предполагает в эпиграфе к поэме, уже начала поглощать тела погибших. Куча существует на пересечении двух осей, обозначаюших не столько время и пространство (как в его ранних стихах), сколько земную и небесную сферы. Катарина Хансен-Леве в своей работе, посвященной концепции пространства в русской литературе, называет такое совмещение «модернистским двоемирием», «в котором все зримое обретает смысл и значение только в сопоставлении с “другим, более высоким” уровнем существования»[279]. Эта вертикаль, представленная в тексте Маркиша фигурой Бога, призрачными голосами мертвецов и библейскими персонажами, пересекается в куче мертвых тел с земной горизонталью, элементами которой являются разлагающиеся тела, реалии базарной площади и оскверненные предметы культа, принадлежавшие религиозной общине, ранее жившей в этом штетле.
Церковь – земное воплощение христианства – сравнивается с вонючим хорьком и находится на горизонтальной оси рядом с кучей:
Куча грязного тряпья – снизу и доверху!
На! Все, что хочешь, безумный ветер, выкопай и забирай!
Напротив сидит церковь, как хорь, у кучи с задушенной птицей.
A kupe koytik gret – fun untn biz aroyf iz!
Na! Vos dir vilt zikh, dul-vint, krats aroys un nem dir!
Antkegn zitst der kloyster, vi a tkhoyr, bay kupe oysgeshtikte oyfes
[Markish 1922: sec. 1].
Обычные товары, которые можно купить на базаре, сливаются в единую массу с телами людей, еще недавно шивших эту одежду и евших этих птиц. «На! Забирай все, что хочешь» звучит как привычное зазывание торговца, но фрагментирование и перемешивание предметов и слов выворачивает эту обычную и относящуюся к повседневной жизни (то есть горизонтальную) реплику наизнанку. Площадь выполняет свою функцию центра коммерческой и культурной жизни общины, поскольку груда мертвых тел изображается то как некая фантасмагорическая форма капитала, то как своего рода божество. Первую часть поэмы Маркиш заканчивает еще одним характерным для данного топоса восклицанием, обращенным к Богу: «И носите их на здоровье, все, все!» («Un trogt gezunterheyt, in nakhes, ale, ale!») [Markish 1922: sec. 1]. Trogt gezunterheyt (носите на здоровье) – это обычное напутствие торговца, который только что продал предмет одежды. Тела и их голоса заняли место товара и ждут, когда новый владелец заберет их с базара.
Маркиш вкрапляет христианские образы в текст, полный цитат из еврейской литургической традиции, и тем самым вульгаризирует одновременно и иудаизм, и христианство[280]. Когда происходит трагедия с человеческими жертвами, особенно если она произошла в конкретном здании или городе, еврейская религия предписывает читать скорбные молитвы (кинот, в ед. ч. – кине), а также песни из «Плача Иеремии», и поэма Маркиша, как отмечают исследователи его творчества, безусловно находится в русле этой традиции[281]. И те и другие полагается читать в день Девятого ава, когда евреи оплакивают разрушение Первого и Второго храмов. Маркиш дает понять, что куча мертвых тел на рыночной площади штетла возвышается над этими трагедиями прошлого, потому что она осязаема и материальна.
В самом центре этого нарратива находится коллективное мертвое тело. Авраам Новерштерн утверждает, что, помещая лирический субъект «Кучи» в центр поэтического пейзажа, Маркиш прибегает к своему излюбленному экспрессионистскому приему. «Благодаря гиперболе, типичной для Маркиша как экспрессиониста, куча одновременно становится и “картиной мира” и “центром мира”» [Nowersztern 2003: 147]. Мэтью Хоффман замечает, что «и у немецких, и у еврейских экспрессионистов поэтическое “я” находилось в центре мироздания, и все вокруг преломлялось сквозь эту призму» [Hoffman 2007:142]. В военной поэзии Маркиша коммерческий пейзаж становится братской могилой всего штетла, и религиозные образы, которые он использует, служат ему не только в качестве привычных метафор – они представляют собой те архаичные символы, которые необходимо обменять на новый порядок вещей.
Возможно, «Куча» следует литургической традиции в том, что касается тональности повествования, однако речь в ней идет прежде всего о происходящих на Украине трансформационных процессах, и особенно о взаимоотношениях в штетле между євреями и украинцами. Сцена бойни, описанная в поэме со всеми натуралистическими деталями, служит Маркишу для того, чтобы синекдохически связать жертвы погрома с товарами и заключаемыми на рынке сделками. Рынок, где покупают и продают одежду, продукты и части человеческих тел, является идеальной рамкой для полотна, на котором изображена фрагментация бога и людей. Неестественно пустой город похож на «перевернутую телегу в пустом болоте» («Vi in a zump a leydiker an iberkerter vogn») [Markish 1922: sec. 3]. Эта перевернутая телега напоминает о сломанном возе из «Сорочинской ярмарки» Гоголя: «Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски» [Гоголь 1937–1952,1:115]. Коммерческий пейзаж, дающий нам возможность для таких интертекстуальных сопоставлений, позволяет наложить друг на друга эти тревожные образы. И словно для того, чтобы призвать литературные рынки прошлого, Маркиш пишет в следующих строках: «О, только бы кто-нибудь вернулся сюда с чем-то, только бы кто-нибудь пришел что-то сказать» [Markish 1922: sec. 3].
Связь между потерянными словами и утраченным товаром – это мостик между миром духовным и миром коммерции. Поэтический голос произносит слова молитвы, но потом вновь сбивается на базарную речь: «О мои перемоченные распростертые руки, десять раз обесчещенные – на тебе! на тебе!» («o mayne oysgedavnte gevendte hent / geshendt in tsentn – / na dir, na dir!») [Markish 1922: sec. 3]. «Перемоченные» руки означают здесь, что молитва окончена. Эти руки становятся частью странной сделки, видимо, с Богом, которому даются инструкции, как с ними обращаться: «И береги их, и облизывай, словно пес, их расцарапанную кожу и гнойные раны, я обещаю их тебе!» («ип tsertl zey, un lek zey, vi a hunt/ oyffel tsekretsikter – an eyterdike vund, / ikh bin zey dir menander!») [Markish 1922: sec. 3].
Как убедительно показал Сет Волиц, Маркиш прибегает к традиционной литургической форме отчасти для того, чтобы еще сильнее продемонстрировать свой модернистский разрыв с этим каноном [Wolitz 1987]. Нарратор продолжает свой разговор с Богом: «Я построил для тебя в центре рыночной площади новую молельню, Боже, / черную кучу» («ikh hob dir ufgeshtelt in mitn mark a nayem mishkn, Got, / a shvartse kupe») [Markish 1922: sec. 3]. Этот образ кучи чрезвычайно похож на «памятник красному мясу» из пьесы Маяковского 1913 года «Владимир Маяковский. Трагедия», который воздвигается там, «где за святость распяли пророка» [Маяковский 1955–1961:162]. Маркиш заново населяет опустевший рынок изрубленными телами из кучи – нового Ковчега Завета, покрытой грязью телегой со спящими пассажирами и новыми словами. Это заполнение пустоты базируется на памяти о нормальном рыночном пейзаже, где у товаров есть своя цена и где вещи часто ломаются и продаются по частям. Маркиш, показывая фрагментированные объекты, создает абстрактную картину штетла: этот художественный метод роднит его с Элем Лисицким и Казимиром Малевичем[282]. Такая же трансформация происходит и с языком: литургическое повествование смешивается с речью базарных торговцев, и за счет этого возникает кощунственная комбинация торга и молитвы. Здесь можно вновь вспомнить пьесу Маяковского, где «тысячелетний старик» видит в рассказчике «замученный крик», распятый «на кресте из смеха» [Маяковский 1955–1961:156]. Также и голосам из «Кучи» придана грубая телесность: они представляют собой жертвоприношение во славу новой, все еще не окрепшей эпохи.





