Литературная черта оседлости. От Гоголя до Бабеля
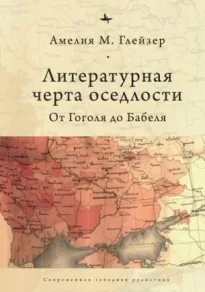
- Автор: Амелия Глейзер
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2021
Читать книгу "Литературная черта оседлости. От Гоголя до Бабеля"
Революция Бабеля
Именно Горький добился для Бабеля места военного корреспондента при Первой Конной армии под командованием С. М. Буденного во время Советско-польской войны 1920 года. Война между Красной армией и польскими частями началась в 1919 году и вышла на новый виток в апреле 1920 года, когда Симон Петлюра заключил союз с Пилсудским и граница с Польшей передвинулась на восток [Snyder 2003:139]. После кровопролитного лета 1920-го, стоившего тяжелых потерь как полякам, так и большевикам, за Польшей остались большая часть Волыни и Галиция, а Советы получили остальную часть Украины и Беларусь [Snyder 2003: 140]. Введение военного коммунизма и ставшие следствием войны разорение и нищета украинских земель привели к полному коллапсу местной экономики. Все, что крестьянам удавалось вырастить, немедленно реквизировалось, и люди больше не могли продавать излишки сельскохозяйственной продукции, чтобы было на что жить. Как мы видели в пятой главе, коммерческий пейзаж, который раньше был центром жизни штетла, в литературе революционного периода стал символом хаоса и разорения.
Бабель начал делать свои конармейские заметки еще на польском фронте; для того чтобы скрыть свою национальность, он выбрал псевдоним Кирилл Васильевич Лютов. Если Гоголь веком ранее нарисовал для петербургских читателей картину плодородной и хлебосольной Украины, то Бабель, возвращаясь к этому коммерческому пейзажу, изобразил его разрушение. В рассказе «Учение о тачанке» Бабель показывает, как тачанка – пулемет на телеге – стирает привычный пейзаж: «Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить – тачанка – кровь» [Бабель 1991, 2: 41]. Рассказ заканчивается описанием оставленных позади безжизненных еврейских местечек – жертв недавней войны; у Бабеля это метафора, относящаяся к еврейскому миру в целом, который быстро уходит в небытие после революции. Бабелевский протагонист Лютов вступает в Галицию как освободитель, но он несет с собой беды и разрушения и сознает это. Да, он творит историю со своими соратниками-большевиками, но при этом ему приходится расставаться со своим (пусть и далеким) еврейским прошлым под стрекот пулемета.
В «Одессе» Бабель писал: «Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украины?» [Бабель 1991, 1: 64]. Внимательно читая «Конармию», мы видим, что Бабель осознанно деконструирует гоголевский плодородный пейзаж. В первом конармейском рассказе «Переход через Збруч» описывается буквально обезглавливание украинского солнца: «Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова» [Бабель 1991, 2: 6]. Рассказ начинается с того, что Лютов и его отряд едут через разоренную войной Волынь в сторону Варшавы[293]. Как мы помним, в «Сорочинской ярмарке» Гоголя герои отражаются в водах Псела; в пережившем радикальную трансформацию украинском пейзаже Бабеля бойцы не отражаются в реке, а заглатываются ею: «Кто-то тонет и звонко порочит богородицу». Насильственно вторгаясь в Украину, Лютов переходит важную черту и попадает в Дантов ад Польской кампании. За пасторальным пейзажем, с описания которого начинается этот рассказ, скрывается мир, сошедший с ума: круглое оранжевое солнце превращается в «отрубленную голову», а черные квадраты, напоминающие о кубофутуристических творениях Малевича, тонут в воде: «Река усеяна черными квадратами телег» [Бабель 1991, 2: 6]. Уже этим первым рассказом Бабель дает понять, что для описания истерзанного войной мира и нового взгляда на него глазами рассказчика необходимо использовать авангардистские художественные приемы. В этой картине с тонущими в реке фигурами явственно различимы знаки апокалипсиса, который наступает в результате объединенных усилий казаков и примкнувших к ним городских интеллигентов, таких как Лютов.
На фоне этого эстетизированного символического пейзажа особенно контрастно смотрятся сцены, свидетелем которых становится Лютов, когда он оказывается вне остального войска. В том же коротком рассказе описан эпизод, в котором Лютов останавливается на ночлег в еврейской квартире в Новоград-Волынске. Оказывается, что у рассказчика много общего не только со своими товарищами по армии, но и с этими ставшими жертвами войны евреями, и такая смена перспективы еще больше усиливает ощущение хаоса, вызванного Гражданской войной:
– Уберите, – говорю я женщине. – Как вы грязно живете, хозяева…
Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке… [Бабель 1991, 2: 6–7].
Лютов входит в еврейский дом как чужак, в его словах мы слышим презрительные, даже шовинистские нотки. В разных рассказах конармейского цикла тональность его голоса меняется в зависимости от обстоятельств: иногда он играет роль сурового солдата, а иногда сочувствует встреченным им евреям и становится одним из них. В «Переходе через Збруч» есть сцена с убитым отцом беременной женщины, где Бабель гротескно изображает происходящую на его глазах смену поколений: «Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца» [Бабель 1991, 2: 6–7]. Молодая женщина застыла в моменте времени между неопределенным будущим, в котором возникнет (или не возникнет) новый мир для ее нерожденного ребенка, и утраченным прошлым, воплощенным в фигуре ее убитого отца. Бабель неоднократно использовал беременность как метафору революции. Анализируя пьесу Бабеля «Мария» (1935), Фрейдин пишет о беременной жене рабочего: «Она боится, что ее бедра окажутся слишком узкими для здоровых родов, и это оставляет открытым вопрос о том, действительно ли новый мир появится на свет из чресл русского пролетариата» [Freidin 2009: 44]. У читателя есть все основания беспокоиться и о судьбе ставшей жертвой погрома еврейки из «Перехода через Збруч»: удастся ли ей выжить и благополучно родить ребенка? В этом рассказе мы не сразу понимаем, что старшее поколение мертво, и остаемся в неведении относительно рождения поколения нового. Лютов, как и хозяйка квартиры, зажат в тиски между прошлым и будущим и должен попеременно выступать то в роли еврея, то в качестве солдата, являясь посредником между старым, отмирающим миром и новым порядком вещей.
То, что Лютов оказывается таким посредником, отчасти обусловлено его принадлежностью к кругу космополитичных и просвещенных евреев, что в известной степени освобождает его от национальной ангажированности. Этот факт отличает его от представителей небольших и этнически обособленных общин, которых он встречает в Польше и на Украине. Такая свобода (и верность своей идеологии) роднит Лютова с польским бродячим художником паном Аполеком, картины которого можно найти и в еврейском шинке, и в костеле. Все, что нам сообщается об Аполеке: его пьянство, его дружба со слепым гармонистом Готфридом, его длинный шарф, «нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника» – все это ассоциируется с эклектичной атмосферой ярмарки, с ее карнавальным весельем и смешением культур [Бабель 1991,2:19]. Сравнение шарфа с лентой фокусника отсылает нас к Гоголю – и ко всем подобным лентам, которые мы встречаем в его описаниях ярмарок, и к «радужных цветов косынке» Чичикова. Интересно, что у Бабеля, как и у Маркиша, который, описывая в «Куче» сцену бойни, упоминает ленты, эти самые ленты служат напоминанием о прежних временах и являются связующим элементом нынешнего опустошенного и разоренного войной пейзажа и праздничных ярмарок прошлого.
Пан Аполек – это идеальный автор-торговец бабелевской прозы. Он запечатлевает сцены из уходящей сельской и местечковой жизни на стенах костелов и на иконах, но делает это за деньги. Местные жители охотно платят ему за то, чтобы он обессмертил их в образах святых. Художники, писавшие фрески, вообще часто изображали тех, кого видели каждый день, включая не только прихожан той или иной церкви, но и евреев. Но если на фреске у входа в Троицкую церковь Киево-Печерской лавры, о которой шла речь в первой главе, Иисус изображен изгоняющим похожих на украинских евреев торговцев, то пан Аполек, расписывая костел сценами из Нового Завета, делает святыми как христианских бедняков, так и еврейских. Такой нарушающий все каноны гуманистический порыв вызывает восхищение у Лютова, видящего в этом жесте художника прообраз новой религии. Обязуясь следовать примеру Аполека, который вопреки всем традициям изобразил местных бедняков на фресках и иконах, нарратор дает читателю понять, что герои конармейских рассказов станут своего рода евангельскими персонажами.
Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения – я принес их в жертву новому обету [Бабель 1991,2:18].
«Новый обет», о котором пишет рассказчик в этом отрывке, звучит очень похоже на «Новый Завет». Аполек со своим неортодоксальным взглядом на католицизм по сути создает новую версию Священного Писания. И для Лютова, и для Аполека высшей формой истины является искусство. На руинах разрушенного войной мира Лютов получает из рук пана Аполека эстетическое евангелие, которое становится заменой прежней религии, хоть и не является Новым Заветом в полном смысле слова.
Согласно Григорию Фрейдину, новый бог, рождающийся во время войны, это «жизнь» в ницшеанском и постдарвинистском значении этого термина [Freidin 1994: 164]. Под влиянием нарушающего все художественные каноны Аполека Лютов, для того чтобы дать голос своим сирым и убогим современникам (и тем самым возвести их в ранг святых), готов отказаться даже от «сладости злобы». Аполек со своим необычным взглядом художника становится ролевой моделью для очутившегося на польском фронте космополита Лютова, равно чуждого и украинцам, и евреям. Чужак, художник-мечтатель и автор-торговец, мастер превращения дионисийского хаоса в аполлонический космос, Аполек – это плоть от плоти коммерческого пейзажа, человек, приносящий в деревни и сельские местечки псевдогородской дух коммерции и космополитизма. Коммерция дает художнику свободу: он может идти куда хочет и изображать мир таким, как он его видит. Аполек за плату готов поместить на икону любого желающего, обессмертив его и дав ему искупление. Лютов хотел бы, чтобы его творчество было таким же простым. Мечтая о создании единой поэтики, с помощью которой он мог бы передать свои ощущения от всего того разорения, что он наблюдает, Лютов решает следовать примеру польского художника.
Если Аполек изображает сцены из Нового Завета, на которых рядом страдают католики и иудеи, то Бабель предлагает читателю по-новому взглянуть на концепцию мученичества в целом с учетом текущего взаимоотношений между евреями и христианами. Отсюда возникает мысль о том, что это сложное для евреев время перемен возвещает о наступлении новой мессианской эры, которая положила конец духовному содержанию иудаизма и христианства, но сохранила формальную сторону прежних религий (еврейской, католической и православной), подвергшихся революционной трансформации. Как мы видели в пятой главе, в начале XX века искусство стало площадкой для богохульства и разговоров о необходимости новой религии – и даже нового бога.





