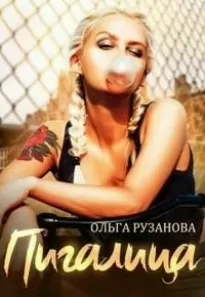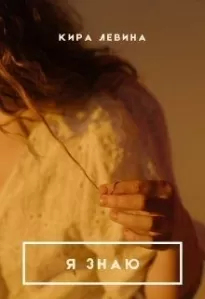Конец

- Автор: Сальваторе Шибона
- Жанр: Современная проза / Историческая проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Конец"
Лесной бегун
Даже сегодня, когда с того дня прошло шестнадцать с половиной лет, когда сестра мертва, магазин продан, письма солдат конфедерации переданы в дар общественной библиотеке, алфавитный каталог сожжен, цветник, разбитый на обрыве за домом, год за годом сползает вместе с разрушающимся берегом в озеро, в доме в дождь протекает крыша в каждой комнате. И сама женщина мертва, конечно, иначе как же шестнадцать с половиной лет ему отказывали в том, что его по праву, в возможности называться, в словах, высказанных вслух не им самим, а каким-то другим человеком, живущим в том мире, как он. Даже сегодня днем, застрявший в ловушке из тел в толпе на уличном карнавале, менее чем в трех кварталах от кафе, где коротал время, отравляя себя сладким, горячо веря, что его найдут, он искал глазами лицо, которое узнает его, женщину, которая ткнет в него пальцем, откроет рот и назовет его имя.
Ювелир понимает, что значит быть названным этой женщиной, ее слова обвинения будут подтверждением того, что он проиграл. Эта ломаная двускатная крыша, пологая у гребня, а ниже крутая, переходящая в навес. Перед ним маленькая девочка – в переднике с рядом пуговиц по позвоночнику, толпа прижимает ее спиной к его ногам. У него тоже есть имя, которое может спасти его от самого себя, может сделать и его словом, только если она произнесет его. Тогда все было бы наконец завершено. Он мог бы оставить давнюю надежду подержать вещь в руках и на этом остановиться. У него больше не будет физически существующих пальцев, чтобы удержать. Но ее здесь нет, конечно, мертва она – орудие его спасения, – он ее убил.
Он приезжает на этот карнавал каждый август уже пять лет, но ее так и не увидел, надежда медленно угасает.
Он стоял у зеркала в уборной, произнося имя и фамилию, ту же, что была у отца, но слова оставляли след лишь на зеркале. Необходим еще один человек. Посмотрите на этих людей, на девочку в переднике и с розовыми ногами, на десять тысяч других, которые зажимают ее телами; они не единственные, у кого есть название, как у двускатной крыши или самовара в кафе. Он один настоящий и безымянный среди них.
Зимним вечером в Кентукки, сидя у буржуйки в доме дяди, тот показывал ему, мальчишке, как изогнуть пилу в двух местах, зажав носком ботинка, как ударять по ней молотком, чтобы взять определенную ноту, сгибая ее или разгибая или касаясь определенного места на сгибе. Он продолжал учиться и потом, уже в доме отца у озера. Сам научился играть «Моя сестра, она работает в прачечной», «Песнь погонщика мула», «Как тебя зовут в Штатах?» и «Армия фараона утонула». И еще он сочинял собственные мелодии, с любовью, которой не испытывал никогда ни к чему более, вслушиваясь в фальшивые, дребезжащие звуки стального полотна. Позже он научился играть, используя смычок отцовской скрипки. Потом кузен отца, который играл на банджо в деревенском оркестре, выступавшем в салуне по субботам, уговорил родителей, хоть разок позволить выступить с ними.
Все музыканты стояли – и скрипачи, и даже человек с гармоникой, и даже пожилой мужчина, обращавшийся ко всем «сэр», имя которого он так и не узнал. Только он, самый молодой, сидел на стуле и стучал по пиле молотком с круглым бойком.
Он никогда еще не сгибал пилу в присутствии других. Пила, на которой он играл молотком, казалась замкнутой; та, на которой смычком, – обнаженной. Исходящему звуку не мешал стук молотка. В сарае, склонившись перед звуком, когда вокруг была лишь пустота, он сам ощущал себя обнаженным. Сгибать пилу было просто, у него хорошо получалось без посторонней помощи; чистейшее творение, по сравнению с которым игра молотком была лишь версией для посторонних – копией, фальшивкой.
Мужчины знали, что он понимает, когда и как согнуть ее, потому стали давить – закручивать гайки. Он не желал этого. Такое не предназначалось для чужих ушей. Если уж он играл перед людьми, мог бы осознать, что таков путь внутрь, сквозь себя, вынуждающий вывернуть все внутреннее наружу. Я сам обращаюсь наконец к миру материальному, к его гражданам, я становлюсь частью его и одним из них. И он согласился, да, он сделает это.
И вот настал момент, был дан знак, когда Сэр подпрыгнул и вернулся на сцену, опустившись на обе ноги. Он сунул молоток под стул. Музыканты убрали инструменты от лиц, а он провел смычком по краю пилы, зная, что зритель там, смотрит на него, но невидим им из-за света масляных ламп по краю сцены.
Он казался себе не просто обнаженным перед залом. Звуки, издаваемые в присутствии посторонних, разрывали его, представляя на обозрение влажное нутро, которое и было им, как он есть, его организмом, переваривающим пищу и потреблявшим воздух, чтобы он существовал.
Внезапно откуда-то из-за стены света послышался звук – кто-то смеялся над ним.
И все же он не перестал играть, не покинул своего места.
И вот Сэр наконец стукнул мыском ботинка по сцене, и оркестр подхватил мелодию, накинул на него наспех сшитую одёжу. Они играли до полуночи, до самого закрытия салуна. Кузен провожал его домой по темным улицам. Он поднялся по лестнице в свою комнату.
Епископ в митре (и эти две полоски ткани, свисающие сзади, как косички у розовоногой девочки, две свисающие ленты), священники, шествующие по улице, мальчики в сутанах, мужчины в белых льняных альбах, важно читающие нараспев на латыни, статуя мулатки на платформе (мулат так называется, потому что кровь у него смешанная, как у мула), стая немолодых женщин в черном и босых, бормочущих нечто над четками (стая скворцов способна образовать мурмурацию), и большой, но какой-то несуразный оркестр играет очень торжественно, пусть даже иногда и фальшиво, сбиваясь с ритма, – все это напоминает ему о вечере в салуне, когда он, мальчик, пытался выступить с той же торжественностью, держа в руках смычок и пилу, выразить то, что ощущал внутри, торжество человеческого «я», а смог лишь то, что вызвало смех кого-то в зале. Точно так же это бормотание, слова мертвого языка, кричаще украшенная драгоценностями наполовину негритянка, которой эти люди поклоняются, как иконе, вместо того, чтобы встать на сторону того, что поистине свято, – все это на самом деле нелепо, абсурдно, смехотворно.
Толпа, кажется, осознает это, поскольку среди них есть как молящиеся и прикалывающие деньги к лентам, тянущимся за паланкином негритянки, так и те, кто хлопает в ладоши, поет и хохочет во весь голос. Мужчины, несущие идола, такие же белые, как и он сам, они даже одеты в белое и не знают, что их не должно быть здесь, как и идола, которого они несут, и женщины, чье лицо он ищет в толпе.
И теперь ему внезапно вспомнилось, как, шагая домой по темным улицам в компании кузена, молча разбирая дорогу, как все делают в темноте – при помощи небесных светил, – он задавался вопросом: «Почему я не прекратил играть, было ли, не было ли мне стыдно выглядеть нелепо, абсурдно, смехотворно?»
Он спросил кузена: «Ты слышал смех? Это был мужчина?» И кузен его сказал, что он ошибся, это был не смех, а женщина напевала песню, мелодию которой он играл.
А позже, поднимаясь по лестнице, слушая стук ботинок, касающихся деревянной поверхности, – тук-тук-тук, – он счел, что и этот стук выражает торжество его одиночества, был поражен, как внушительно, весомо, по его разумению, но одновременно самонадеянно предполагать, что со стороны может показаться вызывающим смех.
В этом он чувствовал утешение: что важно для меня, для тебя может быть смешным. Потому что, он был уверен, человек над ним смеялся, хотя, возможно, и подпевал, не собирался обнаруживать себя, хотя смотрел прямо внутрь него – он обещал себе, что не забудет, и не забыл, – постигая саму суть его, название его, которое так и не произнес. Страдание и сострадание – почти одно и то же, так как первое – это то, что Бог посылает человеку, что хочет, чтобы он испытал, а второе – вариант эмпатии, то, что он испытывает к тебе страдающему.
Если она не умерла, значит, сейчас эта женщина в средних годах. Ее лицо могло быть среди этих бормочущих белых женщин в черных одеждах, которых он внимательно разглядывает одну за другой, когда они проходят мимо. Толпа такая плотная, а улица такая узкая, что дети забирались на амбровые деревья и гинкго, карабкались по телефонным столбам и водосточным желобам, ведь там, наверху, было прохладнее и воздух был в движении, а не стоял, образуя тошнотворную духоту, как здесь, в самой толпе. На крыше пекарни маленькая девочка и с ней мальчик, а еще мужчина в костюме-тройке, с несчастным лицом и глазами, которые смотрят на ноги девочки, стоящей к нему спиной, как недавно сам ювелир.
Если она не умерла, могла бы назвать его по имени – неужели никто больше не назовет меня по имени, милая? – но на пути к исполнению ожидания существует значимое и весьма обыденное препятствие.
Шестнадцать с половиной лет назад он поднялся с пола гостиной, налил себе стакан воды, опять опустился, но уже на диван, представился и осведомился, как ее имя. Но она не ответила. И он вновь назвал себя, учтиво просил ее оказать услугу, назвать его по имени, – жила в нем надежда зафиксироваться во вселенной слов, стать словом, с целью пусть и не физически, но все же не оставаться в одиночестве. Но глаза ее были закрыты, лицо превратилось в дряблую красную маску. Он так и не понял, почему она не выполнила его просьбу: либо услышала, но не пожелала, либо была к тому моменту мертва или потеряла сознание от удара о мраморный край кофейного столика в гостиной с пепельницей на нем, рядом с незаконченным пасьянсом.
Сгущалась ночь, темнота окутывала людей и весело звучащие трубы.
Торжественность комична, комедия торжественна. Как видно из этого поклонения белых людей негритянке, словно она была тем, что всего лишь олицетворяла, а эти негры смотрят на них, берутся за руки, чтобы танцевать в образовавшемся свободном пространстве за оркестром, завершая процессию.
Так и смеющийся Давид, одетый лишь в простой льняной ефод, танцевал перед торжественной церемонией у ковчега Завета под звуки песней израильтян, лир, бубнов, лютней, кимвалов и кастаньет. Хам, сын Ноя и отец Ханаана, увидел отца своего в опьянении обнаженным в шатре его, и вышел он, и рассказал об этом братьям, смеясь, но те не сочли это смешным, более того, вошли в шатер, взяли плащ его и, пятясь, чтобы не видеть наготы его, накрыли отца своего.
Танцуют негры, восемь человек, и стоит неподалеку старый негр с коротко остриженными седыми волосами, зло указывает на свои ноги, на них и вновь на свои ноги и ворчит: «Эй вы, прекратите! Прекратите немедленно! Остановитесь, возвращайтесь сюда!» Невидимый, невидимый для толпы старик-негр, они смеялись, хлопали в ладоши в такт громкой, медной мелодии.
Куда же делась розовоногая девочка в переднике? Эту деталь одежды называют передником, хотя на самом деле он застегивается сзади на множество пуговиц и походит больше на сарафан. Получается несоответствие названию. И сказал Господь: «Да будет свет; да будет свод, разделяющий воды; да произрастут на земле деревья, приносящие плоды, каждый со своим семенем внутри; прежде чем обретет форму». Если бы могла только в этот вечер она увидеть его и назвать по имени и фамилии, он вернулся бы в состояние чистого бытия духа, предшествующего возникновению форм. Его фамилия была такая же, как у его отца и отца его отца. Он не нужен своей фамилии.