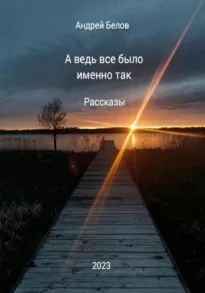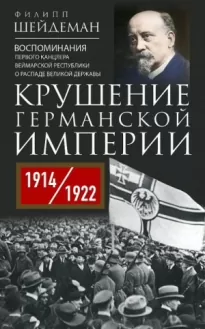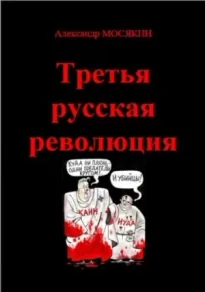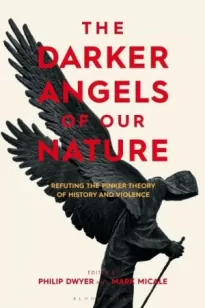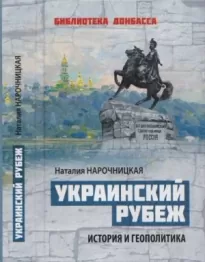Утопия на марше. История Коминтерна в лицах
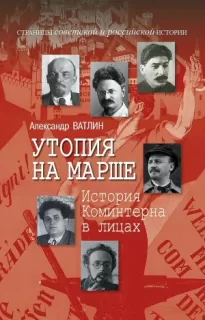
- Автор: Александр Ватлин
- Жанр: Биографии и Мемуары / Политика и дипломатия / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах"
6.13. К антифашистскому народному фронту
Мировой экономический кризис, разразившийся осенью 1929 года, вызвал резкое падение производства и цен в западных странах, дав новые аргументы сторонникам неминуемого и близкого краха капитализма. Одним из последствий кризиса стал растущий приток в СССР квалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Коминтерн должен был взять на себя вербовку рабочих-коммунистов для помощи социалистическому строительству в стране. Проект решения Политбюро от 5 апреля 1930 года предлагал «поставить перед ИККИ вопрос о проведении вербовки специалистов и квалифицированных рабочих — членов зарубежных компартий для поездки в СССР, в целях помощи осуществлению пятилетки»[1600]. Правя документ, Сталин убрал из него всякое упоминание Коминтерна. В основе такого решения лежало не только стремление вождя избежать внешнеполитических осложнений, но и нежелание делиться с иностранными компартиями достигнутыми успехами.
Потрясения мировой экономики начала 1930-х годов не привели к перелому настроений в европейском рабочем движении в пользу коммунистов, однако они радикально усилили противоположный фланг политического спектра. Фашизм, который на первых порах рассматривался в качестве итальянской специфики, стал поднимать голову и в других странах континента. Коминтерновское руководство, сжатое тисками догматизма и не способное к принятию самостоятельных решений, видело в подъеме фашистского движения лишь конвульсии гибнущего капитализма. И Гитлер, и Муссолини выступали в карикатурной роли марионеток, которыми из-за кулис руководили магнаты финансового капитала и тяжелой индустрии. «Период между 1929 и 1933 годами можно назвать самой непродуктивной фазой в развитии дискуссии о фашизме внутри Коминтерна… Наиболее чреватым последствиями было схематическое обобщение понятия „фашизм“ и распространение его на всех противников коммунистов»[1601].
Ван Мин (Чэнь Шаоюй)
[Из открытых источников]
Такой подход оставлял без внимания новые методы воздействия на массы и их политической мобилизации, которые использовались итальянскими и немецкими фашистами. Пропаганда коммунистов представляла Гитлера в качестве простого подручного воротил большого бизнеса, что по сути дела являлось зеркальным отражением нацистской теории «мирового еврейского заговора». Прорыв НСДАП на политическую авансцену перевел вопрос о фашистской угрозе в Германии в практическую плоскость. Вместо того, чтобы искать союзников для противостояния угрозе со стороны праворадикальных сил, коммунисты усилили борьбу против своих потенциальных союзников как в лагере либеральной буржуазии, так и в среде рабочего движения. Неоспоримой догмой для коммунистов всех стран оставалась теория «социал-фашизма», истоки которой берут свое начало в первой половине 1920-х годов[1602]. Согласно этой теории, социал-демократические партии, раньше верно прислуживавшие либеральной буржуазии, в условиях революционных потрясений меняли свою ориентацию, становясь пособниками фашистских движений.
18 июля 1930 года, в день роспуска германского рейхстага и назначения новых выборов, «русская делегация» (в заседании участвовали Сталин и Молотов) поручила разработать специальное постановление ИККИ о борьбе с национал-социализмом в Германии. Однако установки, в рамках которых следовало разрабатывать этот документ, не содержали ничего, кроме старых постулатов и бюрократических пустот: «В проекте директив должно быть указано на необходимость энергичной и постоянной борьбы с национал-социалистами, наравне с борьбой КПГ с социал-демократией, разоблачив их как элементы, способные продаваться творцам Версаля, хотя на словах они выступают против них, и подчеркнуть, что освобождение Германии от Версальского договора и плана Юнга возможно лишь при свержении буржуазии»[1603]. Получалось, что буквально все немецкие партии выстраивались в очередь для того, чтобы «продаться» воротилам западного мира. При таком подходе различия в их программах и политической практике оказывались для Коминтерна не столь уж и существенными.
Редактируя в апреле 1931 года проект тезисов Одиннадцатого пленума ИККИ, Сталин вписал в него фразу о том, что центристское правительство Генриха Брюнинга, не имевшее поддержки в рейхстаге и управлявшее Германией через президентские указы, «все решительнее осуществляет при непосредственной поддержке социал-демократии линию проведения фашистской диктатуры»[1604]. Двигаясь в русле сталинских указаний, пленум дал характеристику социал-демократии как «активного фактора и проводника фашизации капиталистического государства»[1605]. Коминтерн оставался безвольным объектом трансляции решений сталинского руководства ВКП(б), даже на словах не претендуя на самостоятельную роль в антифашистской борьбе.
Накануне выборов в фашистский рейхстаг в ноябре 1933 года И. В. Сталин поддержал не руководство Коминтерна, а немецких коммунистов, работавших в подполье. «Бойкот большевистского толка» в условиях полного господства нацистов неприемлем. «Надо принять участие в выборах в смысле перечеркивания фашистских списков и голосования „нет“ по референдуму»
26 октября 1933
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 82. Л. 56–56 об.]
Не лучше обстояли дела и на китайском фронте — захват осенью 1931 года Маньчжурии означал начало японской агрессии на материке. Сталин давал установку своим соратникам: «…интервенция проводится по уговору со всеми или некоторыми великими державами на базе расширения и закрепления сфер влияния в Китае»[1606]. СССР не имеет возможностей для военного или дипломатического вмешательства, хотя нам выгодно, чтобы империалисты рассорились. Поэтому нужно сосредоточиться на осуждении интервенции в прессе, для чего «следовало бы особо навострить коминтерновскую печать и вообще Коминтерн». Однако последний исправно опровергал любые сообщения о переговорах между Чан Кайши и коммунистами. По линии советской внешней политики Сталин отказался реагировать на предложение пакта о ненападении с правительством Чан Кайши до восстановления в полном объеме дипломатических отношений между странами[1607].
Следуя указаниям Сталина[1608], КПК держалась за политику создания «советских районов» в отдаленных областях Китая, хотя части китайской Красной армии терпели поражения от войск Гоминьдана. До конца 1932 года ВКП(б) и Коминтерн не внесли сколько-нибудь принципиальных изменений в этот курс, который еще более изолировал местную компартию в ширившемся движении антияпонского сопротивления. Ван Мин, представлявший КПК в Коминтерне, обращался с принципиальными вопросами о дальнейшей тактике КПК напрямую в «русскую делегацию», особо подчеркивая необходимость «как можно скорее поставить на обсуждение эти вопросы и привлечь т. Сталина к их разрешению»[1609].
Статья Л. Д. Троцкого о положении в Германии с пометками И. В. Сталина
22 марта 1933
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5236. Л. 2]
1933 год стал особым годом для Коминтерна. Даже историки придерживающиеся традиционных оценок советской эпохи признают, что на этот год пришелся «кульминационный момент левого радикализма и сектантства в коммунистическом движении»[1610]. Приход к власти Гитлера и переход на нелегальное положение образцовой компартии, да еще и в стране, считавшейся стартовой площадкой для нового приступа мировой революции, вызвало шок в руководстве ВКП(б) и Коминтерна. «Разгром КПГ означал провал „левой“ стратегии борьбы с социал-демократией, которую пришлось принять Сталину»[1611].
Георгий Михайлович Димитров
1934
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 274. Л. 1]
Для того чтобы признать этот очевидный факт, потребовалось время. Уже после того, как по всей Германии развернулись репрессии против коммунистов, вождь настаивал на том, что защита парламентского правительства в этой стране была бы тождественна принятию программы социал-демократической партии, «но это ведь означает переход коммунистов на сторону Гинденбургов и отказ их от Маркса, Ленина». Этот вывод генсек сделал после прочтения интервью Троцкого в газете «Манчестер Гардиан», где тот давал нелицеприятные оценки тактике немецких коммунистов («когда германская буржуазная демократия разваливалась, лидеры обеих рабочих партий объединенными силами помогали фашизму прийти к власти»). Его пометки на полях тассовского изложения интервью, обращенные к Троцкому, говорят сами за себя: «Жулик! Шулер! Мерзавец!»[1612]
Важную роль в процессе переосмысления фашистской угрозы сыграл Лейпцигский судебный процесс против коммунистов, якобы виновных в поджоге рейхстага. Главным из обвиняемых являлся член ИККИ Георгий Димитров, координировавший из Берлина деятельность западноевропейских компартий. Его мужественное поведение широко освещалось в советской прессе, а сам болгарин стал едва ли не национальным героем в СССР. Значительным было и воздействие судебных речей Димитрова на западную общественность. Лейпцигский процесс, на котором в роли обвинителя выступил сам Геринг, стал катализатором сплочения антифашистских сил различной идейной направленности и завершился оправдательным приговором.
Получив советское гражданство, Димитров прибыл в Москву. Болгарский коммунист сразу же стал членом Политсекретариата и Президиума ИККИ, что не оставляло сомнений в том, кто протежировал его стремительный политический взлет. Беседы с Димитровым убедили Сталина в том, что он имеет дело с самостоятельно мыслящим человеком, знакомым с реалиями европейского политического процесса. После долгого перерыва в пантеон национальных героев, в котором доминировали стахановцы, летчики и полярники, был введен иностранный коммунист.
В ходе встречи 7 апреля 1934 года Димитров затронул вопрос о сохранении влияния социал-демократии на рабочий класс передовых стран Запада. Сталин ответил, что главная причина такого положения заключается в «исторических связях европейских масс с буржуазной демократией», хотя в современном мире «парламентарная демократия уже не может иметь ценности для рабочего класса»[1613]. Ответ был выдержан в духе линии Коминтерна, хотя советский вождь прекрасно понимал даже малейшие намеки своих собеседников. Для смены политического курса их было явно недостаточно. Решающие стимулы к нему могли прийти только снизу, из стран, где разворачивалась реальная антифашистская борьба.
Такой страной стала Франция, где период политической нестабильности достиг своего пика в попытке антиреспубликанского путча 6 февраля 1934 года, когда несколько тысяч фашиствующих молодчиков двинулись на штурм парламента. После этого Париж и крупнейшие французские города на несколько дней охватила волна забастовок и политические демонстрации, в которых плечом к плечу шли коммунисты, социалисты и либералы. Число участвовавших в них перевалило за 4 млн человек[1614].
Февральское восстание австрийских рабочих было жестоко подавлено правительственными войсками
Вена. Февраль 1934
[Из открытых источников]
Практически одновременно с мирным контрнаступлением французских левых произошло вооруженное восстание в Вене, поводом к которому послужила попытка властей разоружить шуцбунд — боевые отряды австрийской социал-демократии. 12 февраля 1934 года во время такого обыска в городе Линц произошла перестрелка рабочих и полицейских. Волнения вскоре перекинулись в столицу Австрии. Бои в Вене продолжались несколько дней и привели к сотням погибших с обеих сторон. Небольшая компартия Австрии, отбросив теорию «социал-фашизма», поддержала решение социалистов о вооруженном сопротивлении. Около тысячи шуцбундовцев и членов их семей добрались до Москвы, где им был оказан восторженный прием[1615].