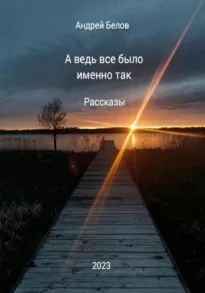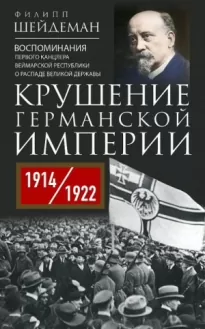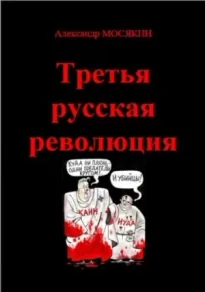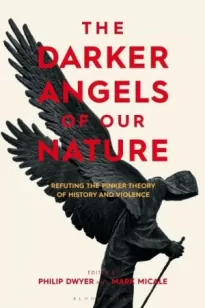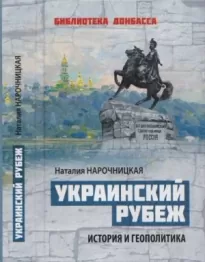Утопия на марше. История Коминтерна в лицах
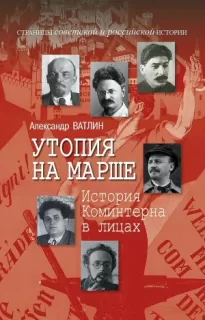
- Автор: Александр Ватлин
- Жанр: Биографии и Мемуары / Политика и дипломатия / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах"
6.11. Сталин и аппарат Коминтерна на рубеже 1920–1930-х годов
Историки, занимающиеся Коммунистическим Интернационалом в начале 1930-х годов, сходятся в одном: ультралевая тактика и организационное сектантство оказали губительное влияние на международное коммунистическое движение. Продолжалась чистка аппарата ИККИ и отдельных компартий от истинных и мнимых приверженцев «правого уклона», насаждение жесткого догматизма сверху дополнял растущий идейный конформизм снизу. Свидетельством падения роли Коминтерна для советского руководства стало то, что его конгрессы не собирались с 1928 по 1935 год, хотя по уставу должны были созываться ежегодно. Революционная риторика коммунистов оказалась мешающим фактором в условиях, когда Советскому Союзу нужны были стабильные отношения с западным миром для получения оттуда передовых технологий. Прагматическая линия НКИД одержала верх над теорией мировой революции, которую исповедовал Коминтерн, акции последнего упали до своего исторического минимума[1565].
Лидеры коммунистического движения искали свое место в изменившемся мире, все теснее привязывая себя к внешнеполитическим целям СССР. «Защита Советского Союза против угрозы нападения на него империалистов является больше, чем когда бы то ни было, важнейшей задачей всех секций Коммунистического Интернационала», — говорилось в резолюции расширенного Президиума ИККИ, состоявшегося в июне 1930 года[1566]. Несмотря на весь пафос подобных клятв, которые тиражировались советской пропагандой в годы «великого перелома», деятельность иностранных коммунистов уже не вызывала былого интереса и внимания внутри страны. Советские люди устали ждать, когда на Западе или на Востоке займется зарево мировой революции, для идеологического обоснования сталинской модели построения социализма в одной стране нужны были иные аргументы. Мы справляемся сами и без победы коммунистов в далеких странах, рассуждали рабочие, нам помогают зарубежные специалисты, оказывающие содействие в освоении передовых технологий, и даже крупные капиталисты, продающие нам целые заводы.
Подготовка военных кадров для будущих революций на Западе и Востоке была сокращена из-за перераспределения ресурсов на индустриализацию, но не прекратилась полностью. Она проходила по разным линиям, включая и Ленинскую школу Коминтерна, учащиеся которой получали на время обучения вымышленную идентичность и военное обмундирование. Если их политическим воспитанием в духе марксизма-ленинизма занимались сами коминтерновские структуры, то военно-разведывательные аспекты курировало Разведуправление Генштаба РККА во главе с Яном Берзиным. В документе, датированном 17 января 1928 года, он подчеркивал, что «все усилия IV Управления в области подготовки диверсионной работы на случай войны не приведут к желательным результатам, если нам не будет оказано соответствующее содействие со стороны соседних с нами компартий»[1567].
В докладе говорилось о совещаниях с их представителями, посвященных мерам по разложению армий противника, которые привели к формированию специальных пятимесячных курсов, где иностранцев обучали подрывной и диверсионной работе. Среди их участников доминировали представители компартий соседних с Советским Союзом государств, прежде всего поляки и латыши. К 1932 году через эти курсы прошло около 200 иностранных коммунистов, обучение проходило на так называемых пунктах связи Коминтерна, располагавшихся в ближнем Подмосковье (Баковка, Кунцево, Пушкино)[1568].
Вячеслав Михайлович Молотов
1930-е
[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1599. Л. 13]
В конце 1920-х годов в СССР было покончено с фрондой среди большевистских вождей, которые считали себя соратниками и даже преемниками Ленина. Утверждение в ВКП(б) сталинского единовластия закрепило методы управления и механизмы, которые критиковала оппозиция. Центральный аппарат Коминтерна — его Исполком, Контрольная комиссия, Интернационал молодежи и секретариаты массовых организаций, сформированных по профессиональному признаку, копировали методы работы, утвердившиеся в ЦК ВКП(б) и советском комсомоле.
Высшие органы Коминтерна продолжали эволюционировать по принципу матрешки, порождая внутри себя все новые и новые структуры. Избранный Исполкомом Президиум передал в 1927 году бразды правления Политсекретариату, который сформировал еще более узкие и закрытые комиссии, обраставшие собственными референтами и техническим аппаратом[1569]. «Если Коминтерн и был бюрократическим учреждением, то крайне хаотичным»[1570], — признают современные ученые. Одновременно снижался номенклатурный вес представителей ЦК ВКП(б), работавших в его Исполкоме на постоянной основе.
Бойкот Бухарина, продолжавшийся и после формального примирения 7 декабря 1928 года, привел к периоду «разброда и шатаний» в коминтерновском аппарате. Выстраивание новой вертикали власти требовало времени, равно как и смещение акцентов политической работы. Левый поворот, который получил новую энергию после осуждения «правого уклона», грозил превратить компартии в секты радикальных догматиков. Пятницкий, оставшийся на коминтерновском хозяйстве в это переходное время, первым почувствовал неладное.
На заседании Политсекретариата 4 января 1929 года сторонники тактики «класс против класса» при обсуждении директив съезду КПА высказались за то, чтобы английские коммунисты выдвинули требование выхода профсоюзов из лейбористской партии. За это высказались Лозовский и Бела Кун — известные недруги Бухарина. Пятницкий был вынужден письменно обратиться к лидерам ВКП(б), предложив решить вопрос в «русской делегации» и подчеркнув его политическое значение: «Выставление этих лозунгов приведет к еще большей изоляции коммунистов»[1571]. И здесь он нашел поддержку Сталина (в первой половине 1929 года тот вместе с Молотовым регулярно посещал заседания делегации): требование выхода из тред-юнионов было признано «несвоевременным в настоящий момент».
Но это отнюдь не означало учета национальной специфики, в директивы для англичан был включен тезис, который на несколько лет станет священной мантрой для всего коммунистического движения: «Ввиду того, что в резолюции ЦК КП Англии отсутствует указание на правую опасность и борьбу с ней — в инструкции указать, что главной опасностью в КП Англии, как и в других секциях Коммунистического Интернационала, является правая опасность»[1572]. В таком же духе «русская делегация» во главе со Сталиным на своем следующем заседании поправила первоначальный проект открытого письма ИККИ съезду КП США[1573], а затем решилась на почти святотатство — из проекта программы КИМ были вычеркнуты слова Ленина об организационной самостоятельности комсомола как «относящиеся к специфическим условиям» первых лет Советской России[1574].
Руководители Коминтерна и ответственные сотрудники его аппарата на подобных примерах избавлялись от «идейных шатаний» и любых попыток проявить инициативу и самостоятельность. Политические инструкции дополнялись кадровой чисткой. В конце 1928 — начале 1929 года из центрального аппарата ИККИ под тем или иным предлогом были устранены все явные и скрытые бухаринцы. 9 апреля делегация ВКП(б) (вновь при участии Сталина) занималась вопросом укрепления кадрового состава ИККИ. В решении было предложено укрепить различные отделы русскими работниками, а Молотову два дня целиком посвятить коминтерновской работе[1575].
Последний ненадолго занял место неформального руководителя Коминтерна, освобожденное Бухариным. Копируя начальственный тон генсека, он сосредоточился на искоренении любых уклонов от генеральной линии в зарубежных компартиях: «Кто не будет подчиняться Центральному Комитету и проводить в жизнь железную большевистскую дисциплину, тот против линии Коминтерна, потому что без дисциплины говорить о проведении линии — пустяки, пустая болтовня, разговоры»[1576]. В дальнейшем Молотов, загруженный совнаркомовскими делами, передал бразды правления Пятницкому и Мануильскому, которым направлялись выписки решений Политбюро по коминтерновским вопросам для исполнения. Сталин, регулярно получавший проекты ключевых резолюций ИККИ, лишь изредка удостаивал их своими лапидарными резолюциями. Классическое определение сталинской роли в Коминтерне 1930-х годов дал британский историк Эдвард Карр, назвав его «отсутствующим режиссером, который время от времени внезапно возвращается и требует то смены реквизита, то замены… неподходящего актера, а затем исчезает, предоставив другим решать поставленную задачу»[1577].
С весны 1929 года «левый поворот» Коминтерна окончательно превратился в мероприятие, проводимое в жизнь административными методами. Речь шла об искоренении «правого уклона» в тех партиях, которые еще не избавились от демократических традиций. Группу Джея Ловстона в компартии США, фракцию Богумила Илека в компартии Чехословакии и ЦК компартии Швейцарии в полном составе объявили сторонниками Бухарина и его порочных методов руководства Коминтерном, требовали от них публичных покаяний и немедленного исключения нераскаявшихся.
Кадровая работа делегации ВКП(б) в ИККИ опускалась на нижние этажи коминтерновской иерархии. Теперь она стала обсуждать даже кандидатуры в центральные комитеты отдельных партий. По решению делегации из руководящего ядра КП США были выведены Ловстон и Биттельман, за которыми стояло большинство членов партии. Бразды правления — руководство партийным секретариатом — были переданы резко полевевшему Уильяму Фостеру, который в своих донесениях в полном соответствии с установками Шестого конгресса подчеркивал близость революционных потрясений в Соединенных Штатах Америки[1578]. Левое меньшинство в ряде компартий выискивало «правый уклон» в любом решении руководства, подчеркивая, что оно ведет себя a la Bucharine[1579].
Сталин не просто вдохновлял и контролировал этот процесс, но и выступал с разгромными речами против «правых уклонистов» на заседаниях руководящих органов ИККИ, обращаясь к ним с прямыми угрозами: «Сегодня у вас есть еще формальное большинство. Но завтра не будет никакого большинства, и вы окажетесь полностью изолированными… Примут наши предложения товарищи из американской делегации — хорошо, не примут — тем хуже для них, Коминтерн возьмет свое при всяких условиях»[1580]. В состав Секретариата ЦК компартии США был введен его представитель с чрезвычайными полномочиями — он получил право вето на любые решения партийного руководства, если они будут расходиться с директивами Москвы[1581].
«Русская делегация» последовательно очищала аппарат ИККИ от сторонников Бухарина: Грольман и Эмбер-Дро были направлены в Латинскую Америку (последний все-таки остался сотрудником Латиноамериканского секретариата), Эверт — в Индию, ряд германских «примиренцев» остался в почетной ссылке в Москве, получив незначительные должности в отделах Исполкома Коминтерна.
Цеткин больше не привлекалась к работе его руководящих структур. Заявление об уходе с коминтерновской работы подал Таска, который вскоре порвал с коммунистическим движением[1582]. Гарантией лояльности Исполкома для Сталина оставалось его «укрепление русскими работниками», причем теми, кто принял самое активное участие в событиях «горячей осени двадцать восьмого»: в Политсекретариате Бухарина заменил Мануильский, в Президиуме — Гусев.