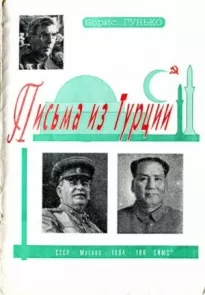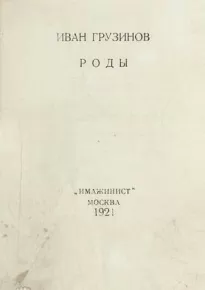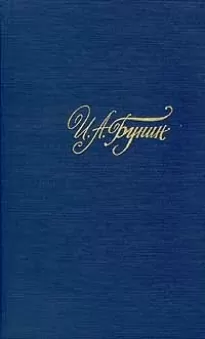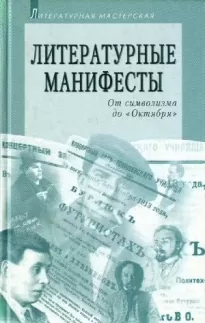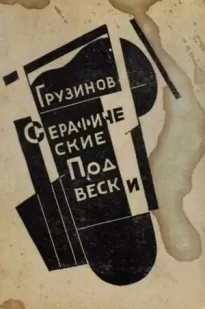Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953
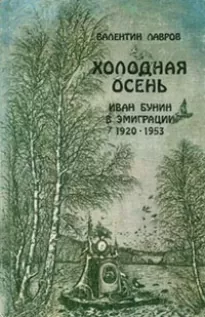
- Автор: Валентин Лавров
- Жанр: Биографии и мемуары / Публицистика
Читать книгу "Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953"
Что она могла сделать? Порвать с мужем? Но от этого ее удерживала не только материальная безвыходность, но в еще большей степени тщеславное сознание, что она — жена самого Бунина. И потом, слишком сильна была надежда, что этот семейный треугольник рано или поздно распадется.
Как показала жизнь, Вера Николаевна в своих надеждах оказалась права. Хотя случилось то, что предполагать ни она, ни кто другой не мог. События разворачивались самым удивительным образом.
Итак, в нашем повествовании появляется новое лицо — Марга Степун, личность незаурядная. Она была профессиональной певицей, пела в опере, позже подвизалась на незавидных ролях эстрадной танцовщицы. По определению Веры Николаевны, обладала самолюбивым и честолюбивым характером, была высокого мнения о себе.
Галину она сумела быстро подчинить своей воле, и из-под ее влияния та уже никогда не вышла.
На «Бельведере» Кузнецова появилась лишь весною 1934 года, а в середине мая — и Марга. Самое удивительное в этой истории — Бунин принял их обеих.
8 июня 1934 года Вера Николаевна писала в дневник: «…Марга у нас третью неделю… С Галей у нее повышенная дружба. Галя в упоении и ревниво оберегает ее ото всех нас…»
Внешне в отношениях Ивана Алексеевича и Галины вроде бы ничего не переменилось. По-прежнему он был с ней шутливо-вежлив, но с какой-то вдруг появившейся сдержанностью. Они встречались взглядами, и Бунин почти впадал в столбняк, жадно впитывая в себя всю ее будоражащую душу прелесть, все то, что составляет нерушимую и неразгаданную тайну женственности. С жуткой ясностью он понимал: она его коварно и бесстыдно обманула, и прошлое уже никогда не вернуть. Но порой его озаряла надежда: а вдруг все поправимо, вдруг все эти муки разрешатся самым простым и счастливым образом, и что всю эту размолвку он выдумал для себя? Он искал с ней случайных встреч и, натолкнувшись на нее на одной из нижних террас, лежавших под «Бельведером», прогуливающуюся с Маргой под ручку, что-то говорящей ей бодрым самоуверенным голосом, он сгорал от стыда за свою слабость и, стиснув зубы, спешил мимо них, делая вид, что куда-то торопится и что никто ему на свете не нужен…
22 апреля 1936 года ездил в Канны. Вернувшись домой, записал: «…Шел по набережной, вдруг остановился: «да к чему-же вся эта непрерывная, двухлетняя мука? Все равно ничему не поможешь! К черту, распрямись, забудь и не думай!» А как не думать? «Щастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!» Все боль, нежность. Особенно когда слушаешь радио, что-нибудь прекрасное…»
7 июня: «Главное — тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления — и собственного постыдного поведения…» Затем — 16 августа: «Иногда страшно ясно сознание: до чего я пал! Чуть не каждый шаг был глупостью, унижением! И все время полное безделие, безволие — чудовищно бездарное существование! Опомниться, опомниться!»
В этом самобичевании не все точно. «Безделия» не было — Бунин все это время работал до седьмого пота, собирал материалы для «Освобождения Толстого». Известны его письма в Тургеневскую библиотеку в Париже с просьбами книг о Льве Николаевиче.
Вот одно из таких писем: «Очень прошу правление Тургеневской Библиотеки выслать мне недели на две:
1. Биографию Толстого, составленную Бирюковым.
2. Книгу Мережковского: «Достоевский и Толстой».
3. «Исповедь» Толстого.
4. Жизнь Будды Ольденберга.
Заранее благодарю за исполнение этой просьбы и прошу сообщить, сколько я должен буду выслать Библиотеке за расходы по пересылке и пр.
Ив. Бунин… 24.VI.35».
Впрочем, в бунинских самообличениях много толстовского, того, в частности, что мы находим в той же «Исповеди». Вспомним хотя бы вот это: «Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как я мог не понимать этого в самом начале. Все это так давно известно всем. Не нынче — завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить — вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман и глупый обман!.. Просто — жестоко и глупо!»
И как Толстой призывает очистить душу от скверны, просветлиться, стремиться к чистой и возвышенной жизни, так и Бунин, словно вторя своему кумиру, записывает в дневник первого декабря 1936 года: «Светлая погода. И опять — решение жить здоровее, достойнее…»
На следующий год — 1937-й, вышло «Освобождение Толстого». В книге есть строки, мимо которых проходить не следует: «По всему свету еще держится убеждение, что, невзирая на все свои «опрощения», несмотря на все свои отказы от всякого барства и богатства, жил Толстой все-таки всегда в барстве, в богатстве. Но в легенде об этом барстве и богатстве, равно как и в легенде о великой греховности Толстого, повинен прежде всего он сам: чего только не наговаривал он на себя! Никто не помнит этих скромных слов: «Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; но жесток я не был». Но как не помнить того страшного, что говорил он о годах своей молодости и средней поре жизни?
— Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспоминать об этих годах… Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить; проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, насилие, убийство… Не было преступления, которого бы я не совершал…»
Это из «Исповеди» Толстого. И тут же плоды работы с другой книгой, которую просил прислать из Тургеневской библиотеки: «Надо сделать еще одну поправку — насчет его опрощения в одежде. Этому опрощению почему-то придали и теперь еще придают совсем незаслуженное значение. Как все деревенские дворяне, он и до опрощения носил зимой (даже иногда и в городе) тот самый полушубок, который впоследствии сделали столь знаменитым… Впрочем, я понимаю, например, Мережковского, который в своей книге («Толстой и Достоевский») посвятил этому полушубку (и косе и пиле, стоявшим в рабочей комнате Толстого) столько наивных страниц: трудно найти даже среди нынешних русских писателей более типичного городского человека, чем Мережковский, отроду никогда не видавший, вероятно, собственными глазами ни косы, ни пилы, — недаром он называет пилу напильником…»
Так что, уважаемый читатель, не будем называть пилу напильником, рассуждая об особой греховности Бунина. Как святые были склонны рядиться в вериги и власяницы, так многие русские писатели — Толстой, Достоевский, тот же Бунин — стремились к духовной чистоте, целомудрию и бичевали в себе недостатки с такой яростью, которая смущала слабые умы.
В середине тридцатых годов Иван Алексеевич совершает несколько поездок по Европе. В ноябре 1935 года был в Бельгии и оттуда писал Н. Я. Рощину: «Меня очень чествуют. На вокзале встреча: представители русской колонии, журналисты, фотографы (это 16-го вечером). После сего (вечером же) обед в Русском клубе. Речи, приветствия. 17-го, в 5 часов, было мое выступление — народу пушкой не пробьешь. Читал не плохо! Овации».
Весною 1938 года совершил турне по Прибалтике. 30 апреля Бунин писал Вере Николаевне из Риги: «Труднее
Вагоны, отели, встречи, банкеты — и чтения — актерская игра, среди кулис, уходящих к чертовой матери вверх, откуда несет холодным сквозняком…
После чтения был банкет. Множество речей, — искренно восторженных и необыкновенных по неумеренности похвал: кажется, вполне убежден, что я по крайней мере Шекспир…»
А вот как описывает знакомая Бунина Вера Шмидт, бывшая в 1938 году студенткой, чтение им своих рассказов в Тарту, в театре «Ванемуйне»: «Народу было полно. Нам пришлось тесниться и стоять у стен, молодежи было много — русской, эстонской, немецкой. Бунин вышел с книгой в руках, сдержанно ответил на приветствия, сел к столу. Первым прочел он «Кавказ»… Всего три страницы. Взволнованно и стремительно пишет Бунин здесь о любви, но разве только о любви? Здесь вся Россия, все, что он больше всего любил в ней, — Москва, дорога на юг, степь… Бунин читал при полной тишине и напряженном внимании слушателей… Для нас, кто еще не видел России, это и была она — с ее запахами и голосами, дорогами и селами, горами и м о р е м. Читал он прекрасно. На сцене казался выше своего роста».
В антракте Шмидт увидала Ивана Алексеевича за кулисами. Он сидел за зеркальным столиком, откинув бледное и смертельно усталое лицо на спинку резного стула. Закрытые веки нервно подрагивали. Трудным был этот заработок. Дома в ящике письменного стола он хранил счета гостиниц Лозанны, Милана, Генуи, Загреба, Любляны, Венеции, Белграда, Монтре, Сплита, Гертенштейна, Дубровника…
И везде, повсюду были русские, бедные русские. Они с жадностью внимали его словам, запечатлевали в памяти каждый его жест, клали на край сцены к его ногам цветы. Он казался им лучом родного солнца, на мгновенье согревшего остывающую от разлуки с Россией Душу.
Но однажды в Венеции он столкнулся с другими соотечественниками. Это были крепкие мужички, одетые в полувоенную форму, в высокие хромовые сапоги и со свастиками на рукавах. Вытянув по проходу ноги, они развалились на первом ряду. Бунина они почти не слушали, громко переговариваясь между собой. Лишь один из них, с острым птичьим лицом и жесткими усиками «а-ля фюрер», был навязчиво внимателен, постоянно приставая с одним и тем же вопросом:
— Господин Бунин! Вы так и не ответили: какие стихи вы посвятили нам, истинным русским, распятым большевиками?
Бунин сверкнул глазами, желваки напряглись на его лице:
— Распятым, говорите? Да,
Зал замер. Даже на первом ряду подобрали ноги в сапогах.
Бунин минуту-другую стоял молча, потом поднял лицо и, глядя в упор на незваных любителей поэзии, чеканя каждое слово, прочитал:
…Блестя отличной работы кожей, люди в сапогах направились к выходу.
Вечер продолжался.
И снова — вагоны, отели, сцены, публика. У русского поэта была своя Голгофа.
Дневник Веры Николаевны: «Беспокоюсь о Лёне. С 16 августа ни строки. Ноет сердце за Галю — проедают последние 250 франков» (25 августа 1938 года).
Поди, разберись в человеческом сердце!