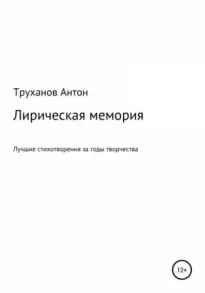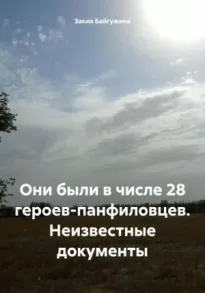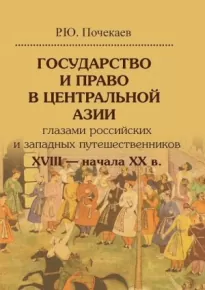Истоки инквизиции в Испании XV века
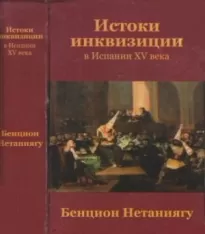
- Автор: Бенцион Нетаньяху
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2015
Читать книгу "Истоки инквизиции в Испании XV века"
V
История роста национализма в Средние века, включая рост национализма в Испании, до сих пор является одним из наименее изученных вопросов гуманитарных наук, хотя его важность для понимания Средневековья, так же как и последующей эпохи, трудно преувеличить. Однако кардинальный вопрос «Что есть нация?» был задан не только в XIX в. Он был задан уже в начале XV в., а по всей вероятности, еще раньше, и, занимаясь этим вопросом, мы ограничимся теми выводами, которые можно сделать из того, что было сказано по этому поводу в интересующий нас период.
На соборе в Констанце (1417 г.) возникла дискуссия о национальности, или, точнее, о том, что составляет настоящую нацию, в отличие от искусственных политических формаций, которые были признаны на этом соборе как naciónes[3002]. Английская делегация выразила мнение, что необходимыми элементами или признаками «национального единства» являются либо «единство крови, отличающее народ от других», вкупе с «привычкой единства», либо «особый язык» или «территория», которая служит местом проживания народа или его родиной[3003]. Мы упоминаем эти «признаки» в том порядке, в котором они появляются в оригинальном заявлении этой делегации, откуда ясно, что только два этих «признака», или даже один, достаточны для определения национального отличия. Пожалуй, самым примечательным в этом определении является тот факт, что его «признаки» национального единства не включают общего подчинения князю или кому-нибудь относящемуся к правительству. Нация узнается по ее основным, присущим только ей качествам, а не по сменяющимся персонам ее правителей. Это явно не то же, что королевство, и существует отдельно от королевского владения.
Такое мнение не было единичным. Несколькими месяцами ранее португальское посольство на Констанцском соборе протестовало против включения прелатов Сицилии и Корсики вместе с арагонцами в испанскую нацию на том основании, что, несмотря на их бытность подданными короля Арагона, они говорили на другом языке и были «истинно другой нацией»[3004]. Точно так же в своей речи на соборе в Базеле (1434 г.) о приоритете Кастилии в праве занимать места в заседании Алонсо де Картахена сказал, что «во владениях моего господина, короля [Кастилии], есть разные нации и различные языки», демонстративно подчеркивая тот факт, что «кастильцы, галисийцы и баски являются разными нациями и используют разные языки»[3005]. Очевидно то, что, согласно Картахене, национальная принадлежность не идентична с языковой, хотя он явно рассматривал язык как один из наиболее значимых признаков нации. Мы, наверное, окажемся недалеко от цели, если примем, что в глазах Картахены «родство крови и привычка к единству» составляют, как и для англичан в Констанце, главные атрибуты нации.
Таким образом, когда Докладчик, или Барриентос, или Перес де Гусман говорили о марранах как об отдельной «нации», у них было ясное представление о предмете разговора. Они говорили об общности, которая может быть отмечена «признаками», названными англичанами в Констанце. Но какой «признак» может быть отнесен к конверсо? У них не было ни своей территории, ни языка, отличавшего их от других. Для того чтобы определить их отдельной нацией, оставалось «родство крови и привычка единства». Отсюда и важность того, что «раса» была принята как их «национальная» особенность, отсюда взаимосвязь расы и нации как терминов, определяющих их идентификацию.
Это приводит нас к самому сердцу проблемы, которая неизбежно вытекает из этой дискуссии. Если нации полуострова разделялись не только по своим меняющимся династиям и правителям, которые зачастую навязывались им извне, но также по врожденным, естественным различиям (этническое происхождение, язык и т. д.), и если конверсо рассматривали себя, так же как их друзья и враги, как общность со своими особыми национальными характеристиками, то можем ли мы не согласиться с тем, что конфликт между ними и другими национальными общностями Испании проистекал прежде всего из национальных различий, а не из какого-либо другого источника? Или же, если источником конфликта было что-то иное, как то, на что мы указывали выше (т. е. религиозные, социальные или экономические причины), не был ли этот конфликт ожесточен национальным антагонизмом до той остроты, которой он достиг? Этот вопрос, насколько нам известно, до сих пор не был поднят в исторической литературе, относящейся к марранам. Однако в рамках темы нашего исследования мы обязаны его поднять и рассмотреть.
Когда Алонсо де Картахена говорил о нациях, живущих под властью Кастилии, он, несомненно, эхом отозвался на доводы англичан в Констанце, которые видели главный признак нации в «особом языке» группы, и он тоже мог приписать определенным кастильским группам некоторые другие признаки, которые англичане считали свидетельством национальных качеств. Однако сами по себе эти качества, как и другие атрибуты национальной общности — государственность, правительство, юридическая система и т. д., не являются признаками национального существования и функционирования. Хорошо известно, что для существования и функционирования нации необходимо, вдобавок к вышеуказанным свойствам, то особое качество, которое последователи национализма назвали национальным сознанием — достоянием, включающим в себя память и перспективный взгляд (т. е. сознание общего прошлого и общая озабоченность будущим), волю, состоящую из общей решимости продлить и защитить жизнь своей общины, декларированное и понятое, в общем и целом, согласие видеть интересы общины выше прочих интересов, а превыше всего — стремление сохранить или приобрести состояние политической независимости. Разумеется, эти элементы, как отметили ученые, присущи не всем нациям в равной степени и не всегда появляются одновременно. Начиная с зародышей, они растут и развиваются, пока не достигают, все или только некоторые их них, зрелости и становятся способными мотивировать действия нации. Тем не менее они должны существовать как минимум в заметно более развитой стадии, чем эмбриональная, чтобы какой-либо коллектив приобрел состояние национальной общности. Итак, если группы в Испании XV в., которых некоторые их члены называли «нациями», обладали в заметной степени этими элементами, они действительно были наполовину или полностью нациями в сегодняшнем понимании этого слова, и тогда законы, применимые к жизни наций, для них тоже действительны. Если же нет — тогда то, что подразумевалось под термином нация, будучи примененным по отношению к ним, было чем-то иным, что еще предстоит определить.
Испания за восемьсот лет Реконкисты прошла через такие ужасные конвульсии, что это могло предоставить почву для самых разных теорий о судьбе испанского национализма в этот период. Так, например, согласно Америко Кастро, древние испанцы практически исчезли в штормовых бурях войн с мусульманами, и нация приобрела свой законченный вид только на рассвете, или накануне, Нового времени. По мнению Кастро, новая нация возникла как продукт особой социальной структуры, характеризовавшей испанскую жизнь до XII в. и позже, — структуры, состоящей из трех религиозных общностей: христианской, мусульманской и еврейской. «То, что сегодня называется «отчизной» и «нацией», — говорит он, — в смысле определения народа в целом, чувствовалось в XII в. как конгломерат верующих в разные веры, то есть каждый в свой религиозный код»[3006]. Эта ситуация, согласно Кастро, продолжалась до кануна XV в., когда, наконец, «из каст convivencia, сперва сотрудничающих, а затем соперничающих, возникли испанцы, какими мы знаем их». Ясно, что, согласно этой концепции, в христианских средневековых королевствах вряд ли было место для национальной жизни в современном понимании, не говоря уже о разнообразии опытов такой жизни.
Однако это разнообразие существовало. Хотя и можно принять точку зрения Кастро, что в первые несколько столетий Реконкисты «религиозная принадлежность служила границей национальной формы целого народа»[3007], ясно, что в те ранние времена были заложены основы для подъема и развития ряда различных национальных общностей, где не религиозные, а другие факторы играли главную роль в образовании их «формы». Кастро, по нашему мнению, переоценивает близость в отношениях между религиозными общностями в ранний период и недооценивает их антагонизм в поздний. Христианская общность не была, как мы видим, просто одним из трех компонентов испанского общества, но всегда была правящим и контролирующим фактором, которому подчинялись две другие. Если бы отношение христиан к мусульманам и евреям изменилось, это было бы изменением не от корпорации к доминированию, но от постоянного доминирования к подавлению и вытеснению. А главное, христиане, и только они, представляли собой корни, ствол и ветви новой испанской нации.
Иначе смотрел на вещи Менендес Пидаль, воспринимавший христианскую Испанию национальной скалой, разбитой ударами молота мусульманского завоевания, а затем воссоединенной испанскими силами, которые трудились, цементируя разлетевшиеся осколки. Менендес Пидаль верил, что в этих фрагментах продолжал жить национальный дух. Соответственно, сказал он, начиная с 1035 г. «объединяющий импульс непрерывно проявлял себя… до тех пор, пока единство [Испании] не было достигнуто монархами-католиками»[3008]. Это, конечно, надуманные утверждения, не доказанные должным образом их автором. В свете ревностного стремления к своей независимости, которое испанские христиане королевства беспрерывно демонстрировали с пылом, который проявляли постоянно, защищая свои интересы и преследуя свои цели, а главное, в свете разрушительных войн, которые они снова и снова вели друг против друга на протяжении всей эпохи, нам трудно видеть их частью одной нации или даже согласиться, что «импульс к единству» непрестанно утверждался в их жизнях. Конечно, некоторые общие воспоминания, законы и обычаи сохранялись всеми христианскими королевствами, но в общем центробежные силы были сильнее центростремительных, новые условия изменили лицо их обществ так, что и они сами, и другие стали видеть их различными национальными общностями.
Нашей целью здесь не является оказаться втянутыми в дискуссию по поводу «происхождения и идентификации» испанцев, поскольку это не имеет прямого отношения к интересующему нас вопросу, а именно отношений между «старыми» и «новыми христианами», но мы считаем необходимым заметить, что наши взгляды по данному вопросу весьма далеки как от точки зрения Кастро, так и от Пидаля. С другой стороны, мы чувствуем себя гораздо ближе к взглядам Ортега-и-Гассета. В своей работе «Бесхребетная Испания» он говорит: «Ошибочно думать, что после того как Кастилия объединила под своей эгидой Арагон, Каталонию и Басконию, все три нации утратили самобытные черты, которые отличали их не только друг от друга, но и от единого целого»[3009]. «Наоборот, — подчеркивает Ортега, — включение в состав одного государства не ставит предела существованию отдельных групп как таковых. Последние, так или иначе, продолжают изъявлять волю к независимому существованию, хотя она теперь сдерживается центростремительными тенденциями, препятствующими существованию порознь»[3010]. Однако народы, чье «отличие» так ярко выражено, что не может быть смазано «слиянием», чья «врожденная внутренняя независимость» настолько сильна, что держится в состоянии подчинения, не могут приобрести эти качества, кроме как с помощью факторов, формирующих нации. И действительно, Наварра, Арагон и Каталония были нациями задолго до того, как объединились с Кастилией, хотя Ортега-и-Гассет оставляет термин «нация» для Испании, их коллективной единицы.
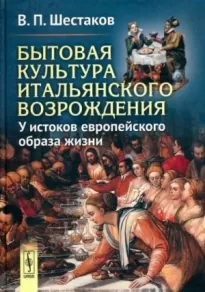
![Замечательные числа [Ноль, 666 и другие бестии] (Мир математики. т.21.)](/uploads/covers/2023-04-13/zamechatelnye-chisla-nol-666-i-drugie-bestii-mir-matematiki-t21-201.jpg-205x.webp)