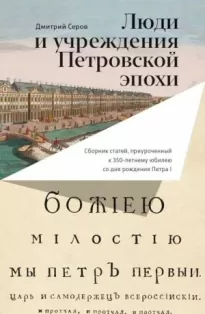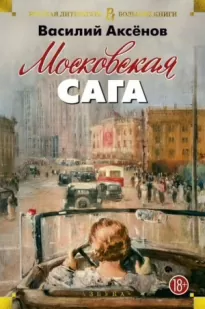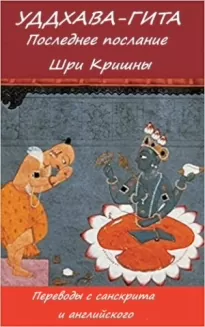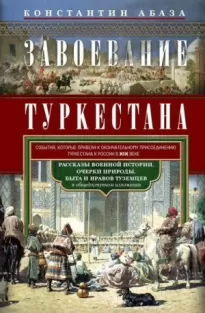Вольтер и его книга о Петре Великом
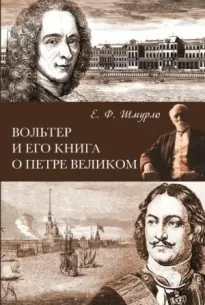
- Автор: Евгений Шмурло
- Жанр: Публицистика / Историческая проза
Читать книгу "Вольтер и его книга о Петре Великом"
Забрасывая Вольтера своими критическими замечаниями, поучительными наставлениями, петербургские рецензенты не всегда, однако, оказывались безупречными сами; к счастью для них, автор книги не в состоянии был проверить их промахов, если только это не были явные противоречия, как, например, в вопросе о правописании имен ван-Гаада или Воронежа. Промахи, ниже указываемые, характерны как доказательство того, что Вольтер пользовался некоторыми источниками русского происхождения, оставшимися Петербургу неизвестными. Вольтер мог ошибаться, говоря, что Великая Пермия в более позднее время называлась «Соликамом», но, конечно, он был ближе к истине, чем Миллер, утверждавший, будто «Великая Пермия никогда не меняла своего имени», что «Соликамск простой, маленький городок в этой области» – он, очевидно, забыл о существовании «Соликамского края» (№ 65). Сочинение Котошихина, во времена Вольтера и Миллера, еще лежало под спудом, но утверждать, как это сделал петербургский академик, что «в России ничего не известно» о том, что рассказывал Вольтер про выбор царских невест[375], – отрицать все огулом, значило тоже не стоять близко к истине (№ 126). Миллер имел основание ссылаться на официальную грамоту, говоря, что Алексей назначил сына своего Федора «перед смертью» преемником; но и Вольтер не ушел далеко от истины, утверждая, что Федор объявлен был наследником престола «за год до смерти отца»: известно, что царевич Федор был показан народу в день нового года, 1 сентября 1674 г. (№ 139). «Царевна Софья писала стихи», сказал Вольтер; Миллер не решился прямо противоречить ему, однако категорически заявил: «не знаю, откуда взято это; ни в одних рукописных записках я не нашел указаний на этот факт, и не слышал тоже ни от кого» (№ 156). «Красное Крыльцо» Вольтер перевел словами: «Krasnoi Kryletz» – что это? Невольное искажение, понятное в устах человека, для которого русский язык не был родным (№ 148)? Миллер не желал смешивать Ледовитый океан (mer Glaciale) с Белым морем, и когда Вольтер выразился, что царь, построив в Архангельске корабль, поехал по Ледовитому океану (s’embarqua sur la mer Glaciale), то он поправил его (№ 186); однако в другом случае сам же допустил выражение: «в России существовали корабли со времен царя Ивана Васильевича, как на Ледовитом океане, так и на Каспийском море» (tant sur mer Glaciale que Caspienne) (№ 116).
У Миллера, однако, можно указать не одни только противоречия или недочеты в знании фактов, но и безусловные ошибки. Константинопольский патриарх у него «самый старший (premier) и самый древний». Возможно ли, возражает Вольтер: самым древним был патриарх александрийский, и константинопольский впервые появился, когда в Иерусалиме успело перебывать 20 патриархов (№ 102; см. еще в Приложении II, параграф 13).
Эту ошибку Вольтер сумел подметить – вопрос лежал в области более ему доступной, чем область русской истории; но что мог он возразить, когда тот же Миллер (не по своей вине, а в зависимости от общего состояния исторических знаний того времени) ошибочно наставлял его, будто английский ботик («дедушка русского флота») найден был в 1692 г., а Петр поехал в Архангельск «в конце 1693 или в начале 1694 г.» (№ 186)?
Было ли утомительно и излишне перечислять все замечания петербургских академиков по вопросам спорного характера[376]; свидетельствуя о добросовестном исполнении принятой на себя обязанности, замечания эти не всегда свободны от задней мысли: желания уколоть автора книги, намеренно выискать ошибку, чтобы потом иметь право бросить ее ему в лицо и сказать: «хорошо препрославленный сочинитель»! Почти все их Вольтер игнорировал и текстом своим в угоду противников не поступился; он реагировал лишь на некоторые замечания, десятка на два, настойчиво, местами язвительно, но всегда с приятной улыбкой на устах защищая свои положения и выражения; и только по поводу замечания Миллера, будто остяки поклонялись шкуре не барана, а медведя (№ 95), совсем не сдержался (правда, Шувалов в ту пору уже сошел со сцены, и с «немцем» нечего было церемониться), заявив, что надо обладать ослиной шкурой, чтобы утруждать себя (appesantir) такими пустяками[377].
Теперь нам остается еще остановиться на поправках академика Миллера к словам Вольтера о французском посольстве в Москву в царствование Михаила Федоровича.
В первом томе своей книги[378]Вольтер оспорил показание Олеария, будто царь Михаил сослал в Сибирь некоего маркиза д’Эксидей (un marquis d’Exideuil), посланника французского короля Генриха IV; Вольтер утверждал, что Генрих никого в Москву не посылал, к тому же и в самой Франции никогда не существовало лица с именем маркиза д’Эксидей: jamais assurément ce monarque n’envoya d’ambassadeur à Moscou, et jamais il n’y eut en France marquis d’Exideuil.
Вольтер был прав в первой части своего заявления, но глубоко заблуждался во второй: посольство от Генриха IV, действительно, никогда не назначалось, зато маркиз д’Эксидей отнюдь не был мифической личностью. В ошибку Вольтера ввел Олеарий, точнее говоря, французский перевод его книги[379], где вместо Людовика XIII, как это следовало бы, назван его отец. Миллер поспешил, еще до выхода в свет второго тома «Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand», указать Вольтеру на этот промах, и тот в позднейших изданиях выкинул последнюю фразу: «et jamais il n’y eut en France de marquis d’Exideuil».
Кроме указаний и поправок, посланных Вольтеру в рукописи, Миллер сделал еще и другие, в дополненном виде, напечатав их в декабрьской книжке «Journal Encyclopédique» за 1762 г.[380], что́ тому было особенно неприятно. Оставить эти указания без ответа казалось неудобным: это значило бы признать их справедливость; Вольтер вынужден был считаться с ними, но в своем ответе он постарался, по возможности, затушевать свои промахи и обойтись без прямого признания их. Именно в предисловии ко второму тому своей книги[381], возвращаясь к вопросу о французском посольстве, Вольтер приводит слова Олеария: «13 февраля 1634 года мы выехали вместе с известным французским посланником Шарлем де Талейран[382], принцем Шалэ. Людовик отправил его вместе с Жаком Руссель послом в Турцию и в Московию; но товарищ столь плохо услужил Талейрану (в Московии), что великий князь сослал последнего в Сибирь». По словам Олеария, иронически замечает по этому поводу Вольтер, Талейран и Руссель – последний по профессии купец – были посланы Генрихом IV. Однако Генрих IV, умерший в 1610 г., конечно, не отправлял посольства в Москву в 1634 г., Людовик же XIII, отправляй он такого знатного вельможу, как Талейран (un homme d’une maison aussi illustre que celle de Tallerand), разумеется, (простого) торговца в сотоварищи ему не придал бы. Европа знала бы о таком посольстве, а оскорбление, нанесенное королю Франции, вызвало бы еще более шума.
Оспорив этот невероятный факт в первом томе своей книги, продолжает Вольтер, и видя, что басня Олеария пользуется известным кредитом, я счел себя вынужденным запросить разъяснений во французском архиве министерства иностранных дел, и там выяснилось, что́ именно породило ошибку Олеария. Лицо из фамилии Талейранов, действительно, существовало; страсть к путешествиям привела его в Турцию, без ведома семьи и без рекомендательных писем. В своих странствиях Талейран встретился с голландским купцом по имени Руссель (Roussel), агентом торгового дома, имевшего кой-какие связи с французским министерством. Маркиз де Талейран поехал вместе с ним в Персию; но, поссорившись в дороге, Руссель оклеветал своего спутника перед московским патриархом, и Талейрана, действительно, сослали в Сибирь; но он нашел способ дать о себе знать родным, и через три года государственный секретарь Дэ-Ноайе (Des-Noyers) добился его освобождения у московского двора.
Характерно, что Вольтер, отказавшись повторить в новых изданиях первого тома прежнее свое отрицание существования д’Эксидей, теперь, во втором томе, как бы отказывается, путем умолчания, признать, что д’Эксидей не был мифом. Не потому ли, что открыто признать его существование значило бы расписаться в своей ошибке? Между тем д’Эксидей существовал – это был тот же Талейран: с 1587 г. фамилия Талейранов носила пожалованный ей титул маркизов д’Эксидей[383]. Что-нибудь одно: или министерство иностранных дел, выдавая Вольтеру архивную справку о Талейране, не упомянуло о его маркизате, или самолюбие помешало Вольтеру прямо признаться в своих промахах. Как бы ни было, но строки, урезанные в первом томе, отзываются некоторым экивоком: Olearius prétend que le czar Michel Fédérovitz relégua en Sibérie un marquis d’Exideuil, ambassadeur du roi de France Henri IV; mais jamais assurément ce monarque n’envoya d’ambassadeur à Moscou. Фраза сама по себе не противоречит действительности: Генрих IV, как мы сейчас признали, в самом деле не посылал д’Эксидей в Москву, но… разве это уже означало, что д’Эксидей вовсе там не появлялся?
Много лет спустя, уже после смерти Вольтера, Миллер опубликовал в «Магазине» Бюшинга, в подтверждение своих указаний, новые данные в статье на французском языке: «Éclaircissement sur une lettre du roi de France Louis XIII au tsar Michel Fedorowitch de l’année 1635»[384]. «Очевидная опечатка у Олеария, – говорит Миллер, – будто Талейран был послан Генрихом IV, дала Вольтеру неосновательный повод отвергать как существование фамилии д’Эксидей, так и вообще все рассказанное Олеарием про посольство французского короля. Сомневаться относительно посылки Талейрана в Москву было позволительно: положительных доказательств таковой у Вольтера, действительно, не было; точно так же, зная, насколько труден для иностранца доступ (admission) к патриарху, тоже позволительно было не принимать на веру всех обстоятельств дела в том виде, как их передавал Олеарий; но идти в своем скепсисе еще дальше не было никаких уважительных оснований. Все согласны в том, что Вольтерова история Петра Великого не удовлетворила возлагавшихся на нее ожиданий. В этом убедились еще до обнародования книги по тем образцам, которые автор посылал в рукописи в Петербург. Меня просили сделать замечания. Я сделал их, но у г. Вольтера не хватило терпения воспользоваться ими – так торопился он отпечатать свой первый том. Я продолжал свои замечания и после выхода в свет этого первого тома и, конечно, не пропустил Талейрана, маркиза д’Эксидей без того, чтобы не поинтересоваться его существованием. Все это было послано автору. Именно с помощью этих замечаний исправил г. Вольтер в предисловии ко второму тому некоторые второстепенные ошибки, допущенные в первом томе; другие он извинил и взамен отплатил мне грубостями. Особенно он постарался не касаться фактов, которые заставили бы его покраснеть. Вот что называется быть автором, не желающим показать своих промахов»[385].
В словах Миллера, несомненно, слышится еще не потухшее раздражение; оно отвлекает его от прямой темы; по существу же, сведения французского министерства иностранных дел, в передаче Вольтера, вызывают в нем сомнения, и он, в целях разъяснения, печатает найденную им в русских архивах грамоту Людовика XIII к русскому царю от 3 марта 1635 г. и на основании ее делает некоторые поправки к Вольтерову тексту. Оказывается, Талейран был французским подданным, но в Москву явился послом от трансильванского князя Бетлема Габора, и Людовик XIII хлопотал за него лишь как за своего подданного, но не как за своего посла. Спутник Талейрана назывался не Руссель (Roussel), а Руссэ (Rousset); «Руссель» – простая опечатка у Олеария, и эту-то опечатку, иронизирует Миллер, автор сообщения, доставленного, по его словам, из министерства, повторяет чересчур уже добросовестно[386]. Кроме того, освобожден Талейран был по ходатайству не семьи своей и не Дэ-Ноайе, а самого короля, притом грамоту Людовика скрепил своею подписью тоже не Дэ-Ноайе, а Бутьер (Bouthillier). Вообще, предупреждает Миллер, предоставляю судить другим, в какой степени сведения Вольтера, в ответ на его запрос, могли быть архивного, официального происхождения[387].