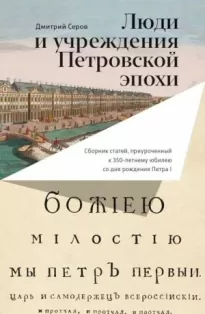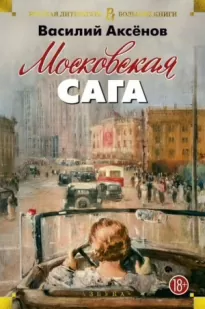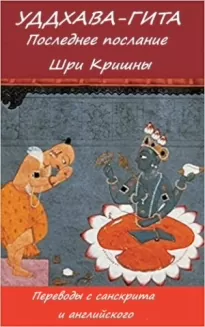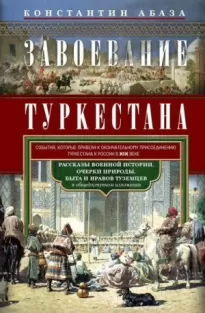Вольтер и его книга о Петре Великом
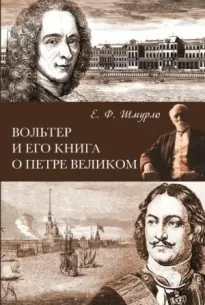
- Автор: Евгений Шмурло
- Жанр: Публицистика / Историческая проза
Читать книгу "Вольтер и его книга о Петре Великом"
Глава четвертая
Мы не располагаем достаточными данными для восстановления, с желаемой точностью, хронологической последовательности в составлении и сообщении тех мнений, замечаний и возражений, какими обменивался Вольтер с петербургскими критиками, работая над своей «Историей России»; дошедшие до нас материалы не дают на то надлежащих указаний; к тому же есть немало оснований полагать, что и то, что дошло и сохранилось, не исчерпывает всего посланного Петербургом.
Мы уже видели (глава II), что в августе 1757 г. Вольтер послал в Петербург, на предварительный просмотр и одобрение, начало своего труда – «легкий набросок», как он называл его: восемь первых глав, содержавших описание событий «с Михаила Романова до битвы под Нарвой»; но возможно, что еще раньше он обратился туда с разъяснениями по некоторым вопросам, особенно интересовавшим его. Сохранились так называемые «Demandes de Mr. de Voltaire». Их счетом три: 1) On veut savoir de combien une nation s’est accrue, quelle était sa population avant l’époque dont on parle, et ce qu’elle est depuis cette époque?; 2) On veut savoir le nombre des troupes réguliers, qu’on a entretenu, et celui qu’on entretient?; 3) Quel a été le commerce de la Russie avant Pierre I, et comment il s’est étendu? В бумагах Вольтера нашлись не только эти запросы, но и ответы на них, и по ним мы можем судить о характере тех материалов, какими снабжали Вольтера, и насколько оказывались они пригодными для него[355].
Цифровые данные первого ответа едва ли особенно пригодились Вольтеру; извлек оттуда он, кажется, одну только общую цифру податного населения России – 20 миллионов, составные же элементы податного класса указаны в его книге в ином распределении, более детальном и с иными цифрами[356]. Второй вопрос – о размерах военных сил России – совсем остался без ответа: вместо цифровых данных Вольтеру сообщили краткий исторический обзор развития русского войска, и цифра 350 000, которую автор приводит в своей книге[357], взята не отсюда.
Всего больше внимания в «Ответах» уделено третьему вопросы – о русской торговле. Это обширные исторические обзоры торговых сношений на Черном море, со времен еще классической Греции, и с персами на море Каспийском. По-видимому, отсюда извлек Вольтер данные о постройке на Волге корабля «Орел» и о сожжении его Стенькой Разиным[358] и те несколько строк, в особой главе о «торговле», где он говорит о привилегии, выговоренной Петром Великим для армянских купцов в Астрахани скупать в Персии излишек шелка-сырца, ненужного для потребностей местного производства[359].
Отправив в августе 1757 г. «легкий набросок», Вольтер, 10 месяцев спустя, в июне 1758 г., послал второй очерк; но в Петербурге еще до получения его уже изготовили и успели выслать свои замечания на первую посылку – это видно из того, что в письмах 17 июля и 1 августа этого самого 1758 г., то есть всего через месяц-полтора, Вольтер не только извещает о их получении, но и шлет на них свои возражения.
О содержании этой петербургской посылки мы можем только догадываться; то же самое приходится сказать и о позднейших отправках. Вообще выделить одну посылку из другой, определить ее размеры, время отправления нет никакой возможности. Единственным исключением являются те ответы, что были даны Вольтеру на его 14 запросов, поставленных в письме 1 августа 1758 г. и доставленных ему 21 декабря того же года[360]. Мы знаем, что этих ответов он не оставил без возражений, посвятив им свое письмо Шувалову от 24 декабря 1758 г.; по-видимому, и другое письмо, от 29 мая 1759 г., вызвано новыми указаниями петербургских академиков; потом, три года спустя, Вольтер возобновил полемику с Петербургом[361]; но это было уже по выходе в свет первого тома «Истории», когда, можно думать, печатное издание дало Петербургу повод частью повторить свои прежние указания, частью дополнить их новыми. Как ни ценны сами по себе, в отдельности взятые, сведения этого рода, но вопроса в его целом они не разъясняют, и потому приходится отказаться от установления хронологических дат и от попытки определить, какими именно частями доходил до Вольтера из Петербурга критический материал, скопившийся в его руках. Ознакомимся с этим материалом по крайней мере в том виде, в каком он дошел до нас.
Полемика Вольтера с петербургскими академиками испортила немало крови как ему самому, так и его литературным противникам. Совместно, на одной работе сошлись люди двух разных направлений, разных вкусов, которые и саму работу понимали розно, каждый на свой лад. Отсюда – взаимное раздражение. Неудивительно, если в результате пострадала прежде всего работа.
Хорошей истории царствования Петра не существовало; да таковой в ту пору не могло еще появиться. Величие подвигов царя никто не думал серьезно отрицать; однако печатная литература о нем уже полна была всякого рода вымыслов, истина зачастую искажалась тенденциозным анекдотом, вздорным слухом, а то и заведомой утрировкой или ложью. Насколько охотно отдавали дань должного Петру-государю, настолько же усиленно трепали его личность, рисуя русского царя то пьяным деспотом, грубым варваром-азиатом, то безжалостным отцом и мужем, тираном своих подданных. Мы знаем, что в такой обрисовке была известная доля справедливого; но в Европе охотно утрировали эти непривлекательные черты, приписывая Петру иной раз Бог весть что: и то, что он убил своего сына, и то, что пьяные пирушки свои обставлял, для вящего удовольствия, казнями приговоренных к смерти; и что Екатерина хотела отравить его и т. п. Делалось это частью из легкомыслия, из желания вернее заинтересовать своего читателя, частью же из бессознательной мести великому человеку.
Дело в том, что с Петром на исторической сцене появилась Россия. Грубый мужчина с здоровенными лапами и локтями, Петр протискался с ней в европейскую гостиную, перемешал там карты и стулья и приказал очистить незваной гостье место, причем принудил многих потесниться довольно серьезно. Европа приняла в свою среду навязанную ей гостью, но старалась отплатить, чем и как могла, за вторжение, и охотно зубоскалила как на счет самой гостьи, так, в особенности, на счет того, кто грубо ввел ее за собой. Россия – это была «сплошная азиатчина», а тот, хотя и «талантливый варвар», а все же «убийца» своего сына, отъявленный «пьяница», «дебошир», вообще, по своим манерам и замашкам, человек мало удобный в «приличном» обществе. Богатый материал для злословия давала и вторая супруга Петра, ее амурные похождения еще в роли «Мариенбургской пленницы», и, позже, на положении всероссийской императрицы. Заградить уста на ее счет было желательно еще и потому, что теперь на русском престоле сидела как раз дочь этой самой «пленницы». Таким образом будущей книге надлежало убить зараз двух зайцев: реабилитировать личность Петра, счистить с него ту грязь, какой незаслуженно забросали его, отметив возможно ярче его заслуги перед родиной, и, одновременно, подмалевать, в мере возможного, генеалогическое древо царствующей государыни.
Но петербургские заказчики этим не удовольствовались: они хотели соскоблить с царя не только вымышленную грязь, но и ту, что была присуща его натуре, его поступкам, – по крайней мере хоть окутать ее густым вуалем; хотели показать читателю одни лишь положительные стороны. «Он бог, он бог твой был, Россия!» – твердили постоянно в Петербурге и считали недопустимым появление даже малейшего пятна на великом русском солнце: историю понимали там в форме хвалебного гимна, и всякое уклонение от нее готовы были поставить наравне чуть не с преступным дерзновением.
Вольтер во многом пошел навстречу петербургским пожеланиям: старался реабилитировать Екатерину, очищал Петра от небылиц, объяснял такие щекотливые поступки его, как суд над царевичем Алексеем, печальной необходимостью, соображениями высшего порядка, или же совсем обходил молчанием наиболее темное и непривлекательное; но, умный и образованный человек, он хорошо понимал всю нелепость рисовать картину в одних только розовых красках. Чего нельзя было отрицать, с тем приходилось, хочешь не хочешь, считаться, и вообще «обоготворять» Петра Вольтер никогда бы не стал. Мы уже видели, как он высмеивал высокопарно-раболепный тон, усвоенный придворными историографами того времени, по поводу даже самых обыденных и заурядных действий и поступков своих государей; в Петербурге же, наоборот, трепетали при мысли неосторожно прикоснуться к царственной особе Петра, смотрели на него сознательно снизу вверх; и потому, вероятно, Вольтер не без улыбки читал замечания Ломоносова о том, что Петра не следует называть «современным Скифом», так как-де славяне никогда не были скифами[362], что не следует утверждать, будто «в начале XVIII в. Европе известен был всего лишь один замечательный человек на Севере – Карл XII», так как Петр прославил себя еще до Полтавы и битвы с Левенгауптом (№ 4). Коробила Ломоносова и фраза «les liens sérieux du mariage ne le retinrent pas assez», выражение «les plaisirs de la table» (№ 181) и слова «ce jeune homme était Michel Romano, grand-père du czar Pierre, fils de l’archevèque de Rostou, surnommé Philarète, et d’une religieuse». «Експрессия дурна, – замечает по этому поводу Ломоносов, – происхождение государево от патриарха и от монахини весьма изображено неприлично. Лучше написать: “сын боярина Федора Никитича Романова, который был неволею пострижен от Годунова, а потом был Ростовским архиереем, и наконец патриархом”»; и полный негодования на злоязычие Вольтерова пера, восклицает: «Прямая Вольтерская букашка!» (№ 121; ср. № 103).
Кроме того, Вольтер и Петербург разошлись еще на одном пункте. В Петербурге, как ни «обоготворяли» Петра, как ни утверждали, что первый русский император вывел Россию из «небытия», однако логического вывода из такой посылки делать не собирались, и когда приходилось говорить о России до-Петровских времен, то обыкновенно весьма энергично защищали ее бытие, отказываясь видеть в ней пустое, в культурном отношении, место, и даже обижались, если ее начинали изображать страной варварской, азиатской, культурно значительно отставшей от Западной Европы. Таковой старая Россия могла быть только по отношению к Петру Великому, Западной же Европе не подобало смотреть на нее такими глазами.
Поэтому в Петербурге усиленно заспорили с Вольтером, когда он стал сравнивать стрельцов с янычарами, жившими грабежом и насилием (№ 92), систему налогов определять названием «турецкой», то есть системой устарелой, основанной на взимании не денег, а продуктов натуральных (№ 93), и спешили заявить ему, что если стрельцы искрошили в куски Ивана Нарышкина и доктора ванн-Гаада, то не потому что «придерживались» китайской системы наказания: таковая в России была вообще совсем неизвестна (№ 153). Пожалуйста, не думайте, говорили там, будто у России нет своего отдаленного прошлого; не представляйте ее каким-то новым явлением в жизни Европы: Архангельский край, под именем Биармии, известен был издавна (№ 21); как ни древне происхождение Москвы, но в России и до нее уже существовало много замечательных старинных городов (№ 32); а сама Москва – «нарочитый город» (№ 9); она стоит «в великой и прекрасной долине», и там, в половине XII ст., жил очень видный человек благородного происхождения по имени Кучка (№ 31); уже в XV в. там были каменные дома (№ 33).