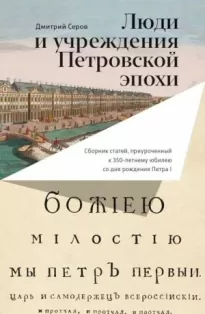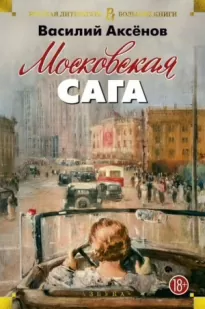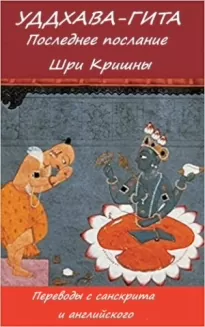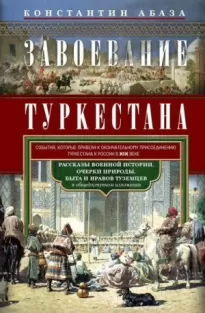Вольтер и его книга о Петре Великом
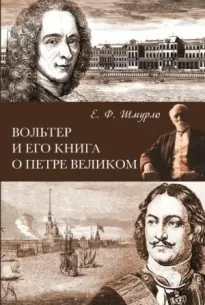
- Автор: Евгений Шмурло
- Жанр: Публицистика / Историческая проза
Читать книгу "Вольтер и его книга о Петре Великом"
Вернувшись с Петром из первого заграничного путешествия, Вольтер повествует нам о перемене в обычаях, нравах, о новых порядках в области церкви. Мы узнаем, что Петр окончательно сформировал 2 полка, предписал сыновьям бояр начинать военную службу с солдат, завел флот в Воронеже и Азове, заменил прежнюю «турецкую» систему взимания налогов новой – не прямо с помещика (с «бояр»), а через бурмистров (Вольтер спутал здесь два совершенно разных распоряжения), произвел реформу в летосчислении, ввел добрачное знакомство жениха и невесты, новый покрой платья, ассамблей, запретил своим подданным именоваться «холопами» и учредил орден св. Андрея Первозванного. Под именем «реформы церковной» Вольтер говорил в этом месте преимущественно о реформах позднейших, 1721 г., что́ заставило его потом повторяться (465–470). Рассказывая о том, как, после Нарвского поражения, Петр стал мало-помалу отправляться от нанесенного ему удара, и упомянув о постройке полугалер на озере Пейпус, с военными целями, Вольтер вспоминает о попытке Петра прорыть канал между Волгой и Доном, о плане соединить Дон с Западной Двиной; а оборот фразы: «Карл XII опустошил Польшу» дает ему случай отметить созидательную деятельность царя и сказать, что он из Польши и Саксонии выписывал пастухов и овец для выделки шерсти, заводил фабрики суконные, полотняные и бумажные, вызывал горнорабочих, оружейных мастеров, литейщиков, занялся разработкой сибирских рудников (477). Описание мер в целях приучить высшее сословие к ношению платья иноземного покроя, заведения типографии и госпиталя по типу трудового дома открывают собою новую главу (480); но дальше, без всякой связи, автор снова возвращается к описанию войны, держась того же приема и на дальнейших страницах своего сочинения.
Конечно, Вольтер слишком опытный писатель, чтобы вводить эти посторонние рассказу строки без всякой внешней связи. Мы сейчас видели на примере, как случайная фраза служит ему литературным приемом найти необходимое звено между двумя периодами, но звено, само по себе, все же остается лишь литературным, простым оборотом речи и внутренней связи не создает. Иногда Вольтер рискует выступать даже и без этого звена; об учреждении сената брошено всего жалких полстрочки среди приготовлений к Прутскому походу: un sénat de régence est établi – вот и все (519). Позже Вольтер еще раз вернется к сенату, но уже в иной обстановке, и столь же мало подходящей: говоря о росте города Петербурга. Характерно, что и этому «росту» самостоятельного места не нашлось, и он приткнут к главе о женитьбе царевича Алексея и браке царя с Екатериной, как заключительные ее строки (541).
Четыре специальных главы – «Учреждения», «Торговля», «Законодательство» и «Церковные преобразования» – та же мозаика из отдельных кусочков; только здесь кусочки крупнее, сведены вместе и выступают под особыми ярлыками, но с прежним отсутствием какой-либо перспективы. Меры полицейского характера чередуются со школами арифметическими, азартные игры и пожарные трубы с уличным освещением и мукомольными мельницами. Несоразмерно много сказано о китайской торговле и о положении церкви; но это потому, что первая интересовала Вольтера по малоизвестности края, да и под рукою оказался готовый материал – книга Ланга о его посольстве в Китай; вопросы же церковные были для Вольтера всегда излюбленной темой, давая повод изощрять на них свой саркастический ум и лишний раз повторять, в той или иной форме, излюбленное «Ecrasez l’infâme».
Вообще Вольтеру видна лишь показная сторона фактов, и притом фактов законченных, – ход же событий, процесс реформ, по недостаточному знакомству с предметом, от него ускользнул. Осмыслить реформы Петра оказалось для него задачей непосильной, … да ему ли одному? В ту пору она была не по плечу вообще никому. В самой России, откуда должны были снабдить Вольтера необходимым материалом, ведь тоже не шли дальше шаблонных выкриков: «Он бог, он бог твой был, Россия!»
Да и сами преобразования Вольтер понимал слишком уж примитивно и формально, как замену одного другим, как внесение чего-либо нового, чего раньше не существовало. Видимо, он оставался холоден к вопросу: «Почему это было так сделано? Именно так, а не иначе?» – «Очевидно, так было лучше», и этого довольно с него, а потому и работа его свелась к указаниям на сделанное, подчас к простому перечню «преобразовательных» распоряжений; и так как внутренней связи между ними и ходом Северной войны автор не видел или не смог указать, а война ведь заполонила собою чуть не всю вторую, наиболее продуктивную половину жизни Петра, дала материал чуть не на всю его биографию за этот период, то Вольтеру не оставалось ничего иного на выбор: или пересыпать этими распоряжениями, по возможности, хронологически биографическую канву, вкрапливать их отдельными кусочками, там и сям, в страницы своего биографического рассказа, или же собрать эти «реформы» воедино, посвятить им, как мы сейчас видели, 4 главы подряд (11–15 второго тома), хотя и на этот раз они вошли в биографию не без насилия и довольно искусственно.
Таким образом, та раздвоенность, о которой мы говорили выше, несоответствие между задачей – рассказать о творении – и действительным содержанием книги – деяния по преимуществу – пагубно отразились прежде всего на самом «творении»: его не видать; сам дух преобразований куда-то исчез, и если б не постоянные заверения автора, что при Петре «искусства и знания процветали», что «народилась новая нация», что Россия сделала необычайно громадные шаги по пути к цивилизации и т. д. в этом роде – можно было бы подумать, что царствование Петра не представляло собой ничего особенного, было таким же заурядным, как и многие иные.
Не вправе ли мы поэтому ожидать, что по крайней мере личность Петра будет выдвинута как следует и получит надлежащее освещение? Однако и тут нас ждет большое разочарование.
Вы ищете характеристики – и не находите ее. Облик Петра остался затуманенным. Эпитеты: «законодатель», «цивилизатор», «реформатор», «механик», «художник», «геометр» – рассеянные по книге, еще не создают образа; сами сравнения с Ромулами и Тезеями, уподобления героям древности лишь подчеркивают бедность собственных признаков. Сказать, что Петру было присуще чувство справедливости – источник истинных дарований; что это была натура беспокойная, предприимчивая (442); что мысль о славе неразрывно сливалась у него с мыслью о благе; что недостатки человека никогда не умаляли в нем достоинств и величия монарха; что Петр возвысил международное положение России, усовершенствовал законы, управление, войско и флот, торговлю, промышленность, науки и искусства настолько, что теперь кажется, будто все это не принесено в Россию извне, а существовало в ней издавна, как явление самородное (626), – сказать это, конечно, еще не значит особенно выпукло обрисовать личность своего героя.
И как все это слабо, по сравнению с тем, что сказано о Карле XII! Шведский король жил в представлении Вольтера реальным существом, был облечен в плоть и кости; Петра же автор отличает от других по наклеенному на него ярлыку; того он видел глазами, этого – одним разумом.
Карл XII – так определяет его Вольтер в труде, посвященном его имени, – был, может быть, единственным из людей и во всяком случае единственным из государей, свободным от человеческих слабостей; но доблести героя он довел до крайностей, возведя их на ту ступень, где они становятся уже опасными не менее самих пороков. Непреклонность и стойкость характера превратилась в упрямство – и принесла свои печальные плоды в Украине, задержала короля на 5 лет в Турции; щедрость граничила с расточительностью – и разорила Швецию; храбрость с безрассудством – и стоила ему жизни. Его суд и постановления, хотя вытекали из желания действовать по справедливости, нередко бывали жестоки; а желание поддержать свой авторитет доводило иной раз до тирании. Достоинства его были громадны – иному государю хватило бы одного из положительных качеств Карла, чтобы навсегда обессмертить свое имя, – но эти достоинства явились источником зла для его страны. Карл никогда не оскорблял других, но в чувстве мести далеко не всегда бывал надлежаще сдержан. Жажда завоеваний не вытекала у него из мысли о пользе и расширении границ своего государства: он завоевывал чужие земли с тем, чтобы потом раздавать их другим. Страсть к славе, к войне и мстительность помешали ему выработать из себя настоящего государственного человека. Перед битвой и после победы это была сама скромность; после поражения – сама непреклонная воля и незыблемый дух. Требовательный к себе и к другим, Карл ставил ни во что страдания и жизнь, как свою личную, так и своих подданных. Его можно назвать человеком скорее единственным в своем роду, чем великим; он вызывает к себе скорее удивление, чем желание подражать, и его жизнь наглядное свидетельство того, насколько царствование, приносящее мир и счастье, выше царствования, которое оставляет по себе одну только славу (XVI, 351).
Как человек, Карл XII был Вольтеру безусловно роднее Петра. Русского царя Вольтер превозносил как государя и, будучи вынужден, согласно с желаниями заказчика, скользить по отрицательным сторонам, уже одним этим лишил себя возможности нарисовать цельную фигуру; в шведском же короле, как видим, он сумел выделить одинаково и положительные, и отрицательные стороны, иными словами, открыть в нем именно человека. Восхищаясь «героическим» решением Карла отказаться от вина и женщин (166), Вольтер не закрывает глаза и на бедность моральных требований в Карле, способном унизиться до выпрашивания у турок прибавки к определенной ему на содержание денежной суммы (292).
Он и в книге, посвященной Петру, нашел для Карла новые формы для характеристики. Слава шведского короля, говорит Вольтер, была совсем иного рода, чем слава Петра. Карл ничего не создал в области просвещения, законодательства, политики или торговли; его слава не идет дальше пределов его собственной личности; право на внимание к себе он заслужил отвагой, превышавшей обыденную храбрость; он защищал свое государство с величием души, равным его бесстрашию, и этого одного достаточно, чтобы вызвать чувство почтения к нему. У него было больше сторонников, чем союзников (555).
Смешно сказать, но образ Петра, не только противника Карла, но и Петра-государя, обрисовался в «Истории Карла XII» наглядней и понятнее, чем в самой «Истории России». Как ни странно это на первый взгляд, однако вполне объяснимо. Вся военная деятельность шведского короля неразрывно связана, прямо или косвенно, с личностью русского царя; составляя биографию Карла, Вольтер не мог обойти Петра и почти на каждом шагу натыкался на него (гораздо чаще, чем позже на Карла – в «Истории России»), так что образ его сложился у автора уже в ту пору. Уже тогда Вольтер нашел в нем главные признаки, к которым позже, по существу, прибавлять ему было почти нечего. Петр уже и теперь «хороший моряк и капитан корабля», «опытный лоцман», «ловкий плотник» (161), или, как выразился Вольтер в другом месте своей книги, «превосходнейший плотник», «превосходнейший адмирал», «самый лучший лоцман на севере Европы» (323). Русскому царю уже теперь уделено место «гораздо более» высокое и почетное, чем его противникам (132), и он уже теперь охарактеризован «великим человеком» (343), «великим государем» (245), «законодателем» (343), «творцом новой нации» (159, 343). Это – «дикарь, просвещающий своих подданных», «человек, творивший новых людей, а сам лишенный главного достоинства человека – гуманности и человечности» (164). В постоянных разъездах по России Петр, – говорит Вольтер, – на все наложил свою руку. У него постоянно в мыслях исправить, усовершенствовать. Неутомимый и деятельный, он исследует естественные богатства страны, роется в недрах земельных, сам исследует глубину реки и морей, лично следит за работой на корабельных верфях, лично испытывает доброкачественность добытых металлов, заботится об изготовлении точных географических карт и тоже прилагает к ним личный свой труд (163).