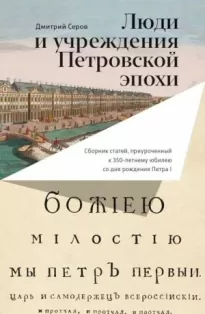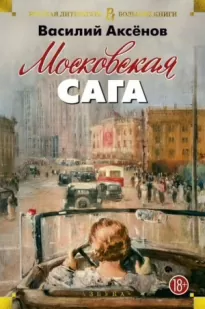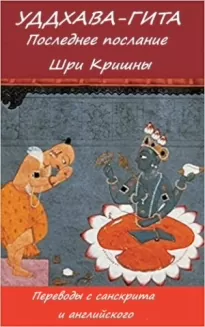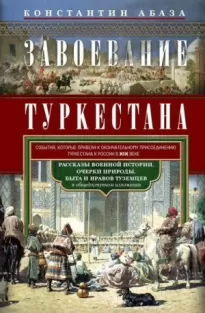Вольтер и его книга о Петре Великом
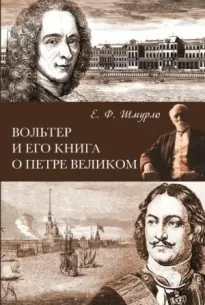
- Автор: Евгений Шмурло
- Жанр: Публицистика / Историческая проза
Читать книгу "Вольтер и его книга о Петре Великом"
Два главных персонажа в «Истории Карла XII» настолько часто сталкивались и соприкасались друг с другом, что Вольтер не мог не сопоставить их между собой, не сравнивать и, следовательно, не определять характерные черты того и другого. И он, действительно, сопоставляет, сравнивает, определяет и уже тогда указывает своему читателю на 9 лет непрерывных побед Карла XII, неизменных и верных его спутниц вплоть до Полтавского боя; и 9 лет неусыпного труда, со стороны Петра, в старании поднять свои войска на уровень шведских; на то, как один увлекался эфемерным желанием раздавать государства, а другой заботился о просвещении своего; как один воевал из-за пустой славы, никогда не думая, что́ полезного и прочного принесет ему победа, а другой в войне на первом плане всегда имел в виду интересы России, всегда держал себя не столько героем, сколько государем, и если помогал союзнику, то не забывал и ему предъявлять свои условия.
Вольтер сопоставляет расточительность Карла и расчетливость Петра: один – широкая натура, другой, будучи бережливым, не останавливается, однако, и перед крупными затратами, если таковые необходимы и полезны; «беспримерной» трезвости и воздержности шведского короля, его «природному великодушию» – противопоставляет грубость натуры Петра, не смягченной временем, «застольные дебоши», излишество и неумеренность в пользовании земными наслаждениями, сократившими его дни. Победив Карла и заняв его место хозяина на море и на суше, Петр использовал свой успех совсем не по Карлову: завоевывая какой-нибудь город, он выводил оттуда ремесленников и мастеров в свой Петербург и, обогатив страну победами, перенес в Россию знания технического производства, промышленность, науку. Швеция, наоборот, с потерей своих областей по ту сторону Балтийского моря, осталась без торговли, без денег, без кредита; боевые, испытанные кадры солдат погибли, сложив свои головы на полях битв, пав от истощения, или томились в русском плену, в рабстве у турок и татар.
В результате, говорит Вольтер, эпитет непобедимого, сам по себе непрочный, не удержался за Карлом XII; но Петра история назвала Великим, и никакое поражение не в силах было отнять у царя это прозвище, добытое совсем не победами (164, 245, 264, 325).
Перечитывая страницы, отведенные Петру в «Истории Карла XII», и сравнивая их с главным трудом Вольтера о русском царе, получаешь впечатление, точно автор исчерпал в первой работе свой материал и остался, принявшись за вторую, чуть не с пустыми руками. Дело в том, что то новое, что там есть, касается не личности Петра, а его деяний или событий, связанных с его именем.
Как это могло случиться?
Литературная задача Вольтера была не из легких. Он ухватился за возможность писать не биографию царя, а историю страны; но, как мы видели, с задачей этой не справился. «Страна» осталась в тумане. Могла бы выйти удачнее вторая половина – биография; но тут сам Вольтер подрезал себя: он не хотел повторяться[350]и прямо заявлял, что новый труд его пишется в подтверждение и в дополнение прежнего: la présente histoire est une confirmation et un supplément de la première (380). Это намерение – дать только новое – связало его перо, лишило свободного полета мысли, вырвало из рук много яркого только потому, что оно было «старым».
Сравните, например, описание поражения под Нарвой в 1700 г. Насколько оно полнее и красочнее в первом труде! Царь, приучающий свои войска к перенесению стужи и непогоды, – царь, дающий пример повиновения и военной дисциплины, приняв звание простого поручика, – плохое вооружение русских солдат – неожиданность появления Карла со своим отрядом – ход битвы – сдача русского войска – данные о царевиче Имеретинском – слова, сказанные Петром: «Знаю, шведы будут еще не раз побивать нас, но в конце концов они сами потом научат нас, как одолеть их», – текст молитвенного обращения русского народа к Николаю Чудотворцу с просьбой оказать ему защиту и помощь против шведов-«колдунов» (171–178) – все эти данные так и просятся в «Историю России»: где же бы, как не именно там, для них наиболее подходящее место? – Напрасно, однако, стали бы мы искать их здесь: автор сознательно отказался от них, и ему не оставалось ничего иного, как орудовать преимущественно сухими цифрами, а на основании новых сведений ограничиться указанием на иное количество войск, участвовавших в битве со шведской и русской стороны, и число пушек, пущенных в дело (472–474).
Основание Петербурга нашло себе место и в том, и в другом сочинении; но в более раннем оно описано ярче и обстоятельнее: борьба с природой, с невозможным климатом, с болотами, железная воля царя, решившего одолеть эти препятствия во что бы то ни стало, выступают там гораздо выпуклее и убедительней. Вынужденный вторично говорить на ту же тему и нового материала в запасе имея немного, автор свел свою работу, в сущности, к простому пересказу и говорит то же самое, лишь в других выражениях. Литературный талант упростил Вольтеру эту задачу: новые выражения найдены легко, однако свежесть первоначальной мысли, сочность красок ослабли, и рассказ вышел более бледный и вялый, чем первоначально.
Петр – читаем мы в «Истории Карла XII» – сам начертал план города, крепости, гавани, набережных, составивших его украшение, и фортов, защищающих подступ к нему. На этот невозделанный, пустынный остров, в сущности, простое скопление ила и грязи за короткий период тамошнего лета, замерзший пруд – в течение зимы, добраться куда с твердой суши возможно было лишь через непроездные леса и глубокие болота, – сюда, в убежище волков и медведей, стеклось в 1703 г. свыше 300 000 человек, собранных царем со всего государства. В Петербург вызывались крестьяне из царства Астраханского, с границ китайских. Прежде чем строить сам город, надо было прорубать леса, прокладывать дороги, осушать болота, воздвигать плотины.
Работа требовала сверхчеловеческих усилий. Царь задался настойчивой мыслью заселить край, казалось, совсем не предназначенный для жизни людей. Ни наводнения, разрушавшие работы; ни скудная почва, ни неприспособленность рабочих, ни даже смертность, уложившая среди них 200 000 человек в первое же время, – ничто не могло изменить его решения. Город был основан, несмотря на все препятствия, какие создавали природа, характер народный и тяжелая война. Уже в 1705 г. Петербург представлял собою город, и гавань его была полна кораблей. Император старался милостями привлечь туда иностранцев, одних наделяя землей, других домами, и поощрялось все, что только способно было смягчить суровость тамошнего климата (211).
А вот как рассказано все это в «Истории России»:
Петербург был заложен на устье р. Невы, в пустынной и болотистой местности, под 60° широты и 441/2 долготы; одна-единственная дорога соединяла ее с материком. Остатки бастионов Ниеншанца снабдили первыми камнями для постройки. На одном из островов, что́ ныне лежит среди города, начали воздвигать маленькую крепостцу; постройка эта среди болот, куда не могли подходить большие суда, шведов не беспокоила; однако вскоре они увидали, что укрепления растут, образуется настоящий город, а маленький, выдвинутый впереди остров Кроншлот превратился в 1704 г. в неприступную крепость, и под защитой ее пушек могли укрыться самые большие корабли. Казалось, для того, чтобы все это создать, необходим был глубокий мир, между тем работы велись в самый разгар войны, и рабочие всевозможных категорий стекались сюда из Москвы, Астрахани, Казани, Украйны на постройку нового города. Грунт земли, очень рыхлый – его приходилось укреплять и поднимать; удаленность вспомогательных средств; непредвиденные затруднения на каждом шагу – обычное явление при любой работе; наконец, эпидемические заболевания, унесшие необычайно громадное число рабочих, – ничто не могло подорвать бодрости духа у великого Строителя. В пять месяцев город был готов. Это была куча простых хижин с двумя кирпичными домами, да вал вокруг; но это было именно то, что требовалось в ту пору; настойчивость и время доделали остальное. Не прошло и полугода с основания Петербурга, как голландский корабль появился там с товарами; хозяин судна получил награду, и вскоре голландцы проложили путь к Петербургу.
Описание Полтавского боя – а уж не его ли бы рассказать как следует в книге, посвященной Петру Великому? – «История России» тоже излагает короче, бледнее. Неудача с отрядом генерала Крейца, давшая Петру возможность оправиться от первого удара шведских драгун и, в свою очередь, перейти в наступление; движение Меншикова, отрезавшего шведский фронт от его тыла, – то и другое там совсем опущено. Что общий бой велся в два приема; что «в 9 часов утра он возобновился» – это мы узнаем тоже только из «Истории Карла XII». Вообще не мало деталей, делающих знаменитый день Полтавского боя достоянием сколько шведской, столь же, если не больше, русской истории, во втором сочинении не нашло себе места; даже характерный тост царя за шведов, своих «учителей», урезан, и совсем нет фразы Петра: «Где брат мой Карл?» Не поставив (основательно) Карла во втором сочинении на центральное место, Вольтер не сумел сделать центральной фигурой Полтавского боя и русского царя (246–253, 506–507).
Вообще можно указать немало эпизодов, непосредственно относящихся к теме новой книги, а между тем они или совершенно опущены, или переданы, сравнительно с прежним, настолько сжато, что от живого, яркого факта остался лишь мертвый остов, одна цифра или сухой перечень.
Так, «История России» совершенно игнорирует вред, нанесенный Литве русскими войсками, – то, что от них населению досталось еще тяжелее, чем от шведов (188 и 482); игнорирует двоедушие Августа Польского по отношению к России, после заключения Альтранштадтского мира (217 и 492); помощь, оказанную цесарем царю посылкой ему немецких офицеров; медали, выбитые в память победы под Калишем (494); ничего не сказано там про опасность, грозившую русскому отряду, по переходе его через германскую границу, попасть в шведские руки (227), о прошлом Мазепы и причинах его разлада с царем (237 и 498); о затруднениях, на какие наткнулся отряд Лагеркрона, попав в болота (238); о том, как царь подготовлял Полтавскую победу, вызывая медленное, но верное таяние шведской армии (242); о временном влиянии Петра в Константинополе, после Полтавы (280), о мотивах, выставленных Карлом XII, в целях побудить Оттоманскую Порту объявить России войну (263); о влиянии русских послов в Константинополе на решение турецкого правительства выслать Карла из пределов турецких (288).
Вот к чему привела автора боязнь «повторений» и намерение новой книгой «дополнить» прежнюю!
К страницам, сравнительно с книгой о Карле, написанным более бледно и вяло, притом изложенным значительно более сжато, следует отнести: описание взятия Нарвы в 1704 г. (210 и 486); движение Карла на Смоленск и неожиданный поворот его на юг, в Украйну (236 и 498); рассказ о Паткуле (219–222 и 492, 493); о попытках Петра дать Польше нового короля, взамен Августа и Станислава (223 и 494). Прежнее живое описание битвы при Лесной тоже сведено теперь к сухому изложению в десяток строк; тревожная, никогда не покидавшая Вольтера мысль – как бы не повториться, помешала ему, при всей его любви к «анекдотам» как одному из литературных приемов для «оживления» рассказа, напомнить о приказе Петра перед боем: «Стрелять в каждого, показавшего тыл, будь это сам я» (239–240 и 500). Во второй своей книге автор, конечно, не мог совершенно умолчать о том, какой вред нанесла шведам суровая зима 1708–1709 г., но ограничился именно только упоминанием, не повторив прежнего рассказа (241 и 502). Та же боязнь повторения сказалась и на описании московских торжеств по случаю Полтавской победы: не располагая новыми данными, Вольтер пренебрег прежней, более или менее живой картиной и удовольствовался простым указанием на порядок, в каком проходили участники процессии под триумфальной аркой (266–267 и 512).