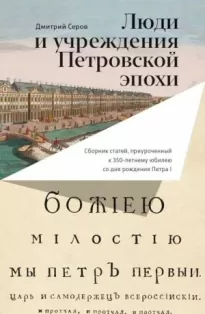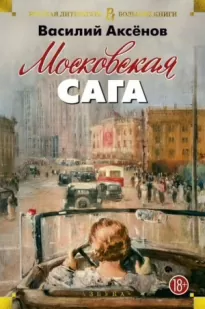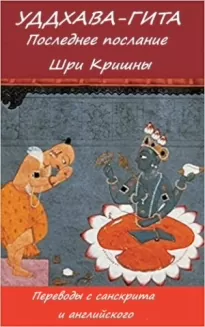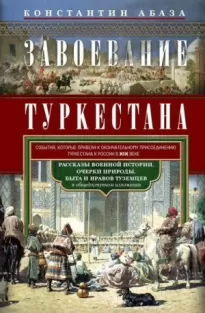Вольтер и его книга о Петре Великом
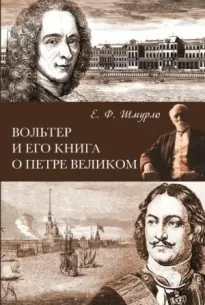
- Автор: Евгений Шмурло
- Жанр: Публицистика / Историческая проза
Читать книгу "Вольтер и его книга о Петре Великом"
Книге Вольтера была присуща еще одна особенность, встретившая в Петербурге большое неодобрение. Уже по самому плану своего сочинения Вольтер рассматривал события на известном расстоянии, и на расстоянии довольно большом, вследствие чего «мелочи», подробности неизбежно сливались и пропадали; в Петербурге же, наоборот, вооружились сильной лупой, чуть не микроскопом, боялись проронить малейшую подробность и мечтали втиснуть в книгу весь материал, каким располагали: располагая, например, записками Матвеева, хотели бы самым подробным образом изложить события 1682 и 1689 гг., стрелецкий бунт, движение раскольников, борьбу царевны Софьи с Хованским, устранение Софьи от власти; Вольтер же основательно опасался, как бы такое обилие данных по вопросу, сравнительно второстепенному, не нарушало соразмерности частей, не исказило должной перспективы. Он писал для широкой публики, а ее необходимо было прежде всего заинтересовать, привлечь к чтению, и потому забота о структуре, о планомерности всего сочинения стояла у Вольтера на первом месте. Он мечтал о беглом, стройном aperçu, из Петербурга же ему грозили громоздким и неуклюжим творением.
Обе стороны зачастую расходились не потому, чтобы одна из них оказалась неправой, а потому что каждая разными глазами смотрела на одно и то же явление. Остяки, говорит Вольтер, жили по соседству с бурятами и якутами, – из Парижа и Délices так ведь одинаково далеко и до тех, и до других! – а Миллер ему: «хороши соседи на расстоянии 100, 200 лье один от другого!» (№ 74). «Кремль – царский дворец»; – нет, отвечают Вольтеру: в Кремле, кроме царского дворца, есть еще церкви, присутственные места, склады, дома частных лиц (№ 144). «La Courlande, qui tient à la Livonie, est toujours vassale de la Pologne, mais dépend beaucoup de la Russie», – говорит Вольтер, – и для 1758 г., в общих чертах, это верно. Но Миллер направляет свою лупу и находит, что была пора, до 1561 г., когда Курляндия не находилась в вассальных отношениях к Польше, и что теперешнюю «зависимость» ее от России можно истолковать неправильно, если видеть в ней больше, чем необходимость считаться со взглядами и политикой русского правительства (№ 16). «La province d’Archangel, pays entièrement nouveau pour les nations méridionales de l’Europe» – Вольтер и здесь прав: кто в Европе XVI, XVII и XVIII вв. слыхал о более ранних известиях про Архангельский край? Ченслор, приехавший туда в царствование Ивана Грозного на своих английских кораблях, действительно, впервые открыл его своим современникам. Нет, спешит возразить Ломоносов: датчане и другие северные народы торговали в том краю еще за тысячу лет до нашего времени, даже еще раньше; не верите, так справьтесь у Сгурлезона, писателя XII столетия (№ 21). Справляться Вольтер, разумеется, не стал, да и не к чему было: он и его критик говорили на разных языках.
Малороссы, по словам Вольтера, отдались в 1654 г. России, без особого, однако, подчинения ей (sans trop se soumettre); зависимыми стали они при Петре (et Pierre les a soumis). Не вдаваясь в подробности, автор, очевидно, хотел сказать, что льготное положение, на каком малороссы вошли в состав Русского государства при царе Алексее Михайловиче, было ими потеряно в царствование Петра Великого – и можно ли с этим спорить? Несомненно, зависимость Малороссии от центральной русской власти значительно усилилась при Петре, и этого довольно для целей Вольтера. Но Миллер, хватаясь за букву закона, спешит возразить: «привилегий Петр не отнимал у них» (№ 47), как будто письменный документ непременно всегда соответствует действительному проведению его в жизнь.
Издали Вольтер видел на устьях Северной Двины всего один монастырь, а вокруг одну «пустыню»; Миллер же в лупу разглядел еще и город Холмогоры, да несколько деревень в придачу (№ 23); с того же далекого расстояния Белгородская провинция представлялась поставщицей скота для одной Польши; на деле же, оказывается, она снабжала также и Германию (№ 53); стрельцов разослали из Москвы не только на крымскую границу, но и на литовскую (№ 213). В увеличительное стекло раскрылись еще и такие подробности: патриарх Адриан умер не просто «в конце XVII ст.», но 18 ноября 1700 г. (№ 226); Петр воздвиг укрепления не только в Азове, но и на Днепре (№ 234) и т. д.
Все с помощью той же лупы Вольтера старательно знакомили с семейным положением русских царей, с именами их жен, дочерей (№ 127, 142, 143, 180), входили в подробности майского бунта 1682 г. (№ 144, 145, 148, 152, 153, 156), движения раскольников и борьбы царевны Софьи с князем Хованским (№ 159, 162, 163, 165, 166), устранения царевны от власти (№ 172–178); точно то же можно сказать и о фактах, касавшихся зарождения флота (№ 186, 195), заведения и устройства первых гвардейских полков (№ 182, 188–194). Недавние исследования Сибири, предпринятые Петербургской академией, отразились на замечаниях Миллера к седьмой главе «Истории» – «Съезд и договор с китайцами» (№ 198–208; ср. № 70); нашлось что указать и по связи с изложением хода Северной войны (№ 249, 256, 258, 269, 288, 294, 296), обстройки города Петербурга (№ 259, 271)[365].
Но ко всем этим указаниям Вольтер оставался глух, находя, что распространяться о том, какие города в России древнее Москвы (№ 32); осложнять общее положение – дома частных лиц в Москве XV ст. представляли собой простые деревянные избы – указанием, что были в ту пору там и каменные дома (№ 33); непременно называть по имени монастырь, стоявший на месте будущего города Архангельска (№ 22); разбираться, кто из русских государей впервые стал принимать на службу иностранцев (№ 110), помирился ли Михаил Федорович раньше с поляками, а потом со шведами, или наоборот (№ 129) – проделывать все это положительно не стоило. Будь такие мелочи даже заранее известны Вольтеру, он все равно игнорировал бы их намеренно, из опасения заслонить ими главные линии своего литературного здания. В особенности находил он опасным загромождать историю Петра Великого изложением событий, предшествовавших его царствованию, «чтобы не утомить преждевременно внимание читателя, который нетерпеливо ждет поскорее перейти к самому царствованию» (письмо Шувалову, 1 августа 1758 г.).
«Разумеется, – пишет он Шувалову 23 декабря 1761 г., – вы не захотите, чтобы я вдавался в мелочные подробности: они плохо вяжутся с высоким назначением исторического труда, задача которого – дать общую картину светлых и отрадных явлений в деятельности великого человека. В специальной истории морского дела, конечно, можно говорить, как строились разные баркасы, вычислять количество снастей, пошедших на них; точно так же и в истории финансов уместно определять цену алтына в 1600 году и сопоставлять ее с нынешней стоимостью; но тот, кто выводит своего героя перед лицо иностранных наций, должен обрисовать его лишь в главных линиях, чтобы вызвать к нему всеобщий интерес».
«Что уместно, – читаем мы в письме 14 ноября 1761 г., – в судебном, полицейском или морском трактате, то совсем не подойдет к большой истории. Заметки, возражения – всему этому место в архивах или в специальных сборниках Ламберти, Дюмона, но ничего не может быть несноснее, если это попадет в историю. Пусть читатель сам роется, если захочет, в таких документах; но ни Полибий, ни Тит Ливий, ни Тацит не обезображивали ими своих сочинений. Конечно, документы эти – фундамент, и на нем строится история; но раз здание воздвигнуто, не следует, чтобы он выступал наружу. Изображение событий в занимательной форме составляет великое искусство, и дело очень трудное; оно неизвестно ни одному немцу. Одно – быть историком, другое – компилятором».
Так ничего и не добились в Петербурге от Вольтера: неточностей он не исправил, бо́льших подробностей не внес и нашел к тому хорошую отговорку. «Мои критики, – писал он 25 сентября 1761 г., – в замечаниях, присланных мне, нередко противоречат друг другу, и согласить их почти так же трудно, как примирить богословов. Что мне делать в таком случае? Лучшим средством избежать докучного разногласия будет – совсем отбросить мелочные обстоятельства, входящие в великие события, особенно если они не существенны. Задача нашего труда, – поучал Вольтер “русского мецената”, – слава Петра Великого; своей книгой мы хотим воздвигнуть ему памятник-статую; но произведет ли статуя надлежащее впечатление, если в одной руке у нее окажется диссертация о Новгородских летописях, а в другой – комментарии о жителях Красноярска? В истории, как и во всем, следует малым жертвовать ради великого».
Ссылка на «противоречия», действительно, была лишь простой отговоркой. Самое большое, на что мог ссылаться Вольтер, – это на признание ошибочности прежнего определения grand crapaud «большим полипом» (№ 151), да на двоякое правописание, предложенное ему в двух случаях[366]. Впрочем, для отказа от подробностей Вольтер не нуждался в отговорках: его точка зрения была совершенно правильна, и защищать ее он мог бы, не цепляясь за мелкие погрешности противника; труднее было оправдать допущение неточностей. Однако в свободном отношении к тексту Вольтер пошел еще дальше: он сохранил прямые ошибки и многие из указанных ему сознательно игнорировал. Вообще фактическая ошибка, разумеется, если она не особенно кричала о себе и краснеть из-за нее не пришлось бы, мало беспокоила нашего писателя, особенно когда он знал, что его читатель не сможет проверить его слов.
Спутать константинопольского патриарха Хризоберга с патриархом Фотием, пожалуй, было неудобно; во Франции нашлось бы немало зоилов, способных подхватить такой промах, и, раз его предупреждали о том, Вольтер спешил исправить свою ошибку (№ 99); зато, по существу, не все ли равно, в 1591 или в 1597 г. убили царевича Дмитрия (№ 118)? Лжедмитрий ли Первый послал Филарета послом в Польшу или кто иной (№ 123)? – Кто в Европе обратит на это внимание?!.. При таком взгляде царь Иван Васильевич легко мог сойти за великого князя Ивана Васильевича, и внук вместо деда «освобождал Россию от монгольского ига», «в XVI веке» (№ 59), и, конечно, еще легче «Рязань» могла сойти за «Казань» (№ 68), Салтыков за Долгорукова (№ 149). Это были те petitesses, на которые Вольтер со спокойной совестью закрывал глаза; он исправил, что успели указать ему еще в рукописи, ворчливо ограничился немногими исправлениями печатного текста, но большинство замечаний оставил безо всякого внимания, как проявление докучного педантства.
Вот почему в самих даже исправлениях он небрежен, недостаточно вдумывается в то, что делает. Первоначальную фразу, определяющую положение Петербурга, – à la jonction de la Neva et du lac de Ladoga – он исправит, но наполовину и, переместив Петербург с истоков Невы на ее устье, все же оставит его у Ладоги (à l’embouchure de la Neva et du lac Ladoga) (№ 18); признается в предисловии ко второму тому, что первый русский митрополит был не грек, а из Сирии родом (№ 100), но тем и ограничится: соответственной поправки в новых изданиях не ищите. Ему говорят: вы неправильно Dunamunde назвали Pennamunde; да, отвечает он, в том же предисловии ко 2-му тому; поставьте, читатель, … Pennamunde вместо Dunamunde (sic) (№ 297) – и новые издания в самом деле поставили Pennamunde: ошибка так и осталась ошибкой. Действительно, в педантстве упрекнуть Вольтера было бы трудно!
С такими приемами неудивительно, если Вольтер считал излишним разбираться и много рассуждать о том, в каком доме первоначально жил в Петербурге Петр: в деревянном или каменном (№ 264); действительно ли брали русские войска у татар Перекоп, или нет (№ 218); слово «раскоп» служило ли именем собственным или было простым прозвищем, квалификацией общественного положения (№ 159); Олеарий ли первый снабдил нас сведениями о Москве, или кто еще раньше писал о ней (№ 34); построен ли Киев греческими императорами или какими-то там братьями Кием, Щеком и Хоривом (№ 45). «Неловкий мазок кисти», «неудачный lapsus linguae»! Их охотно простят талантливому живописцу, писателю, особенно если с именем. А у Вольтера ли нет «имени»? … Так и пошли потом эти «petitesses» гулять по свету во всех изданиях книги, навсегда оставшись искаженными и неисправленными.