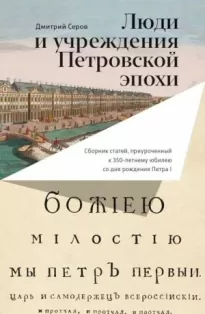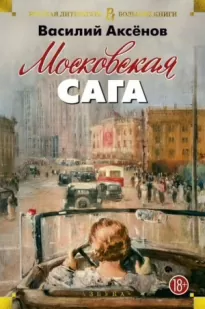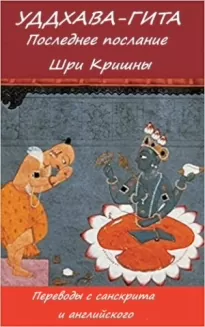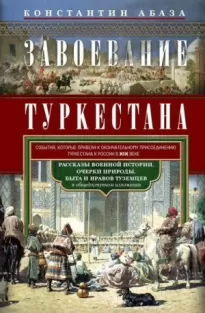Вольтер и его книга о Петре Великом
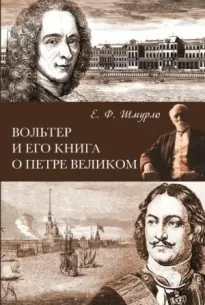
- Автор: Евгений Шмурло
- Жанр: Публицистика / Историческая проза
Читать книгу "Вольтер и его книга о Петре Великом"
С другой стороны, к чему напоминать читателям, что Владимир Святой был сыном наложницы?! В языческую пору разница между женой и наложницей была невелика, и такая подробность не внесет никакой существенной черты в биографию столь выдающегося государя. Напрасно также говорить, что Владимир убил своего брата: во-первых, он его не убивал и не приказывал убивать, а во-вторых, если он и пошел войной на Ярополка, то потому, что был вынужден к тому, защищая себя от угрожавшей ему опасности (№ 98). К чему также описывать наказание батогами? «Пристойно» ли это в истории Петра Великого?… (№ 145).
Вообще все, что могло набросить тень на старую Россию, на ее быт, государственный строй, на ее представителей, вызывает протест со стороны Петербурга. Корабли, указывали Вольтеру, строились в России и до Петра Великого (№ 116); татарам платилась не вынужденная дань, а добровольные поминки (№ 170); если раньше русские, действительно, не выезжали за пределы своего отечества, то не потому, чтобы церковь (религия) категорически запрещала посещение чужестранных земель, а в силу вообще нежелания ездить туда, правда, основанного на предрассудках религиозного характера (№ 117). Простое заявление, что раз в году царь, с обнаженною головой, шел перед патриархом, ведя за узду его лошадь, может дать повод к неверному толкованию; необходимо добавить: это происходило в Вербное Воскресенье, патриарх изображал Иисуса Христа, шествующего на осляти (№ 104). Откуда взял Вольтер указание, будто Стрешнев, отец супруги царя Михаила Федоровича, самолично обрабатывал вместе с слугами свою землю (№ 127)? И потом, зачем называть его «бедным дворянином»? После брака дочери, его возвели в сан боярина; ведь не был же боярином и Милославский, когда дочь его выходила за царя Алексея; между тем Вольтер определяет его этим званием с первых же слов. Следовало бы так же поступить и со Стрешневым (№ 131). Не подобает также уподоблять боярина Морозова турецкому визирю: сравнения подобного рода вообще неприятны, да и неверны: Морозов вошел в силу, потому что был воспитателем царя Алексея, а потом стал его свояком (Там же); что же до того, будто русские солдаты бросились перед победителем под Нарвой на колени, моля о пощаде, то ни один даже шведский историк не сообщает об этом, не говоря уже про то, что такой прием совсем не в нравах русского человека (№ 238).
Вольтером были недовольны за недостаток почтительности к царю Михаилу Федоровичу: несоответственно называть его «молодым человеком», jeune homme, рисовать его личность бесцветной, говорить, что страной, его именем, правил патриарх Филарет и что само царствование его не оставило по себе никаких следов, ни худых, ни хороших. Нет, возражает Ломоносов: при царе Михаиле была обстроена Москва, покончено с самозванцами, вообще восстановлен порядок. Отрицать выдающуюся роль Филарета критик, разумеется, не в силах, но и тут старается ослабить ее замечание: «однако и сам государь был тогда в полном возрасте, когда родитель его из Польши прибыл, и мог отправлять дела государственные» (№ 124, 130). Едва ли впрочем и сам Ломоносов не понимал всей бессодержательности такого возражения.
В господствующей церкви, конечно, неприятно иметь сектантов; но, указывали Вольтеру, нигде так мало сект не было, как в России (№ 106); и напрасно считать русскую церковь до времен Петра «невежественной»: с самого ее возникновения ей уже знакомо было Священное Писание, сочинения греческих отцов Церкви в подлинниках: и если полногласие в церковном пении введено было только в самое последнее время, то это еще не признак «невежественности» (№ 109). Вообще о явлениях в церковной жизни следовало бы говорить с большею осторожностью и почтением. В описании прения с раскольниками в Грановитой палате Вольтер явно издевается над религиозным чувством спорящих (№ 162); фразу, будто «Троицкая лавра охранила царскую семью от стрельцов скорее своими крепостными твердынями, чем святостью места», необходимо выкинуть совсем (№ 165); молитва Николаю Чудотворцу, якобы составленная после поражения под Нарвой, есть очевидная выдумка какого-нибудь француза или немца, с целью посмеяться над русскими, и потому не заслуживает никакого внимания (№ 241)[363].
Когда Вольтер, опираясь на донесение Карлейля, описал жалкую обстановку жизни в Москве времен царя Алексея Михайловича и сказал, что большинство бояр спало не на кроватях, а на простых лавках, подослав под себя кожу или какую-нибудь подстилку; что каменных домов в Москве в ту пору почти не было, а мебель в них отсутствовала; что обедали без скатертей, что улицы не мостились, – то в Петербурге тоже запротестовали, находя такое изображение унизительным для достоинства народа русского (№ 37). Зато и протест поставил Вольтера в недоуменье. «Описания Олеария и Карлейля, – писал он 17 июля 1758 г. Шувалову, – изображают нам Россию того времени страной, которую еще предстояло создать (pays où presque tout était encore à faire); оспаривая это положение, мы уменьшим заслуги Петра, которому Россия обязана культурным подъемом: ведь если так, то, значит, не было и самого творения?!»
Подобное заявление, конечно, вызовет улыбку: мы не привыкли подгонять толкование исторического источника под свою излюбленную идею; но было бы ошибкой подходить к Вольтеру с современными требованиями исторической науки. Прежде всего Вольтер не историк, а просто хороший исторический рассказчик; критика источников у него своеобразная, субъективная; он, если можно так выразиться, мало заботится об исторической правде – его внимание сосредоточено на том, чтобы дать правдивую картину, и притом картину соразмерную в своих частях, где части эти были бы хорошо пригнаны и согласованы между собой. Последнее требование, несомненно, свидетельствовало о его литературном вкусе, но, как видим, выводило на опасную дорогу, тем более опасную, что своеобразное отношение к источникам шло рука об руку с таким же представлением об исторической достоверности. Представление это было именно литературным, не историческим. Один неловкий оборот речи ведь не исказит гладкости и плавности всего повествования; в картине не совсем точно наложенная линия, грубоватый мазок тоже не испортят общего впечатления, если в целом картина скомпонована правильно и нарисована с талантом. Точно так же можно извинить и маленькую неточность, особенно если она поможет удачному обороту речи, внесет яркую черточку, позволит округлить фразу, а главное, не многословить, не напихивать мелких, скучных, ничего не значащих подробностей.
Ведь отличительным признаком Украйны было ее деление на полки, и если она делилась еще и по городам, то разве так необходимо отмечать и это (№ 48)? С Оренбургом, оказывается, торговали преимущественно не персы, а бухарцы, – значит, персы все же торговали; ограничимся одними ими, чтоб не вводить нового неизвестного имени. Кто слыхал о бухарцах? О персах же говорено раньше и будет еще речь впереди (№ 63). В Англию, оказывается, царь поехал не с послами; однако позже, вслед за ним, Головин, второй посол, все же отправился туда, и потому стоит ли изменять фразу, уже сложившуюся и написанную (№ 219)? Петербургский критик называет нехарактерным определение Смоленской области как «части древней Сарматии»: не только-де Смоленск, но и Москва, вся Европейская Россия входили в состав Сарматии – но что же делать, если Вольтер знает о Смоленской области одно только это (№ 40)?
Ход мыслей нашего писателя в этом направлении восстановить не трудно: есть мелочи, о которых серьезно не стоит и рассуждать, точно или не точно изложены они! Не все ли равно, Псковская или Новгородская губерния «скорее» прилегали к озеру Пейпус (№ 246)? Был ли Невиль послан в Россию польским правительством или французским посланником при польском дворе? – Во всяком случае он ехал туда с паспортами польскими и привилегированным положением дипломатического лица пользовался, благодаря им (№ 173)! Вольтер назвал Петербург «самым новым» городом в России, а ему возражают, что там строились после него и другие еще города, – но какое дело читателям его книги до этих «других» городов, и кто слыхал о каком-нибудь новейшем после Петербурга (№ 18)?
В иных случаях Вольтер оставляет очевидный промах без исправления, лишь бы не сделать уступки своему критику, не признать себя побежденным. Он назвал Оренбургскую губернию «маленькой», Миллер же утверждает, что она, наоборот, отличается внушительными размерами, тянется на 15 градусов в долготу, на 10 в ширину. Может быть, это и так, но все же она маленькая по сравнению с Сибирью, к которой непосредственно прилегает (№ 62).
Неточности подобного рода не что иное, как мелочи; они не стоят нашего внимания, и Вольтер, действительно, относится к ним с нескрываемым пренебрежением. Последнее к тому же позволяет ему замаскировать собственное незнание или противоречие, подчас еще и пройтись на чужой счет. Он называет верхом педантства «глубокомысленно» разбираться в вопросе, был ли Иван Гутменш врач или аптекарь, а его собрат ван-Гаад голландец или голштинец родом; и он поднимает на смех Миллера, колебавшегося в определении, что́ именно нашли в комнате у ван-Гаада, когда его убивали, – краба или лягушку: «полагаюсь на ученость моего критика, – пишет он Шувалову 25 сентября 1762 г., – и попрошу его, когда придет время, разъяснить окончательно этот вопрос. В самом деле, ведь это так важно в истории Петра Великого! Наш немецкий ученый, положительно, заправский выученик Нордберга: тот, в своей истории о шведском короле, счел нужным довести до сведения потомства, что скамьи во время коронования Карла XII были обиты синим, а не каким-либо иным сукном. Вот подумаешь: событие такое бесподобное, а государственные люди так поглощены мыслью обо всех этих ценных фактах, что ни об одном из них нельзя умолчать перед читателем!»
Доводами Вольтера петербургские академики, однако, не прониклись и продолжали ревниво и «педантично» уличать его в содеянных промахах. Нельзя, замечали ему, говорить: «le gouvernement de Revel et de l’Estonie» – вместо et следует поставить ou, потому что Ревель есть не что иное, как главный город в Эстляндии и местопребывание эстляндского губернатора (№ 17); нельзя сказать просто: «Иван Васильевич» – следует добавить: «великий князь» (чтобы отличить его от другого Ивана Васильевича, царя) (№ 114)[364]; Елизаветинскую крепость построили не для острастки запорожцев, а для защиты новых колонистов (№ 51); «трех других Лжедмитриев» не существовало – их было всего два (№ 119). Указывали Вольтеру и на недочеты в рассказе о заведении флота на р. Волге при царе Алексее Михайловиче (№ 184), на то, что Эстляндия никогда не входила в состав Ливонии (№ 299); хотели более точного определения термина «полугалеры» (№ 247, 252) и считали, что Батурин – столица не «казаков», а гетмана, причем само слово это по-французски следует писать без буквы h: Baturin, не Bathurin (№ 283).
С описанием Петербурга, однако, вышло нечто неожиданное. Петербургская академия, обыкновенно упрекавшая Вольтера в недостаточном воздаянии чести России и ее «творцу», нашла описание новой столицы русской приукрашенным выше меры и нарисованную картину не соответствующей истине. Оказывается, набережная реки Невы сложена была не «из красивых камней», а Летний дворец совсем не «прекрасный образчик европейской архитектуры»; что триумфальной арки там более не существует; здание биржи, склады под галеры, дворцовые магазины, полицейский дом – обширны и поместительны, да; но арсенал там не каменный, да и казармы гвардейских полков тоже деревянные (№ 19). Вольтер, конечно, понял, что он перестарался; однако переделывать свое описание он не стал – «красоты» Петербурга так согласовались со всем характером и задачей книги!