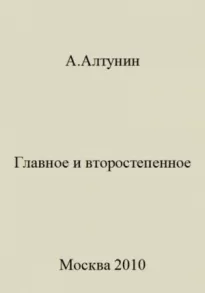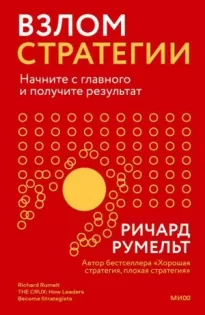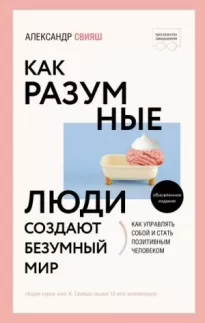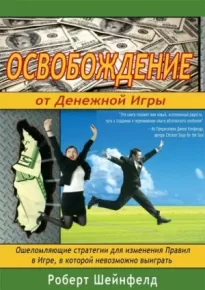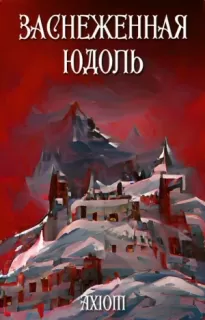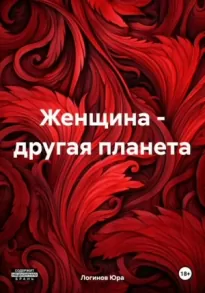Стратегическое мышление в бизнесе. Технология «Векторное кольцо»

- Автор: Андрей Курпатов
- Жанр: О бизнесе популярно / Самосовершенствование / Современные российские издания
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Стратегическое мышление в бизнесе. Технология «Векторное кольцо»"
«Инстинкт мышления»
Получается, что эффективное мышление — это мышление, которое использует разные способы сборки интеллектуальных объектов. И природа оснастила нас соответствующим инструментарием. Только вот пользуемся мы им, сами того не осознавая, а значит, не можем пользоваться им прицельно, целенаправленно.
Впрочем, поскольку мы понимаем, под какие задачи мозг создавал ту или иную интеллектуальную стратегию, мы можем их реконструировать. Давайте попытаемся понять и прочувствовать, как мы думаем под воздействием того или иного инстинкта, и концептуализируем эти стратегии, чтобы пользоваться ими по собственному решению и с максимальной эффективностью.
В чём же принципиальное отличие задач на выживание, на социальность и на продолжение рода?
Задача выживания — это вопрос нашей безопасности, а на уровне мозга за неё отвечают прежде всего:
• так называемые миндалевидные тела (знаменитая амигдала);
• и островковая доля — это область коры головного мозга, которая, впрочем, спрятана как бы внутри больших полушарий (рис. 1).
Рисунок 1
Расположение островковой доли миндалевидных тел в мозге
Миндалевидные тела отвечают за две самые неприятные наши эмоции: страх и агрессию — знаменитая пара «бей или беги».
Эти эмоции и в самом деле связаны самым непосредственным образом: агрессия не возникает у человека просто так — сначала мы чувствуем угрозу (а значит, уязвимость и страх), а затем начинаем защищаться (вот и появляется агрессия).
Островковая доля — это область коры головного мозга, которая отвечает:
• с одной стороны, за формирование у нас эмоционального состояния, поэтому она тесно связана со многими структурами так называемой лимбической системы;
• с другой стороны, она является местом сбора, так сказать, наших телесных ощущений — когда у вас что-то болит или плохо работает в организме, эта информация обрабатывается именно здесь.
Удивительно, впрочем, другое. Как выяснилось совсем недавно, островковая доля, эволюционно предназначенная для сигнализации нам о физической боли, у человека отвечает и за «душевную боль» — например, когда вы теряете близкого человека, — и за боль «денежную».
Да-да, я не оговорился. Профессор психологии и неврологии Стэнфордского университета Брайан Кнутсон показал в своих исследованиях, что, когда нам приходится расставаться с деньгами, мы испытываем что-то вроде физической боли — как если бы нас ударили в живот или начали душить.
То есть наш инстинкт самосохранения настолько сросся с представлением о деньгах, что, расставаясь даже иногда с незначительной суммой, мы ощущаем себя уязвлёнными и незащищёнными. В этом, надо признать, есть своя логика, ведь именно деньги гарантируют нам в этом мире еду, кров, социальное признание — то есть какую-никакую безопасность.
Нейрофизиология восприятия денег
Видео об исследованиях Брайана Кнутсона из онлайн-курса «Мозг и бизнес»
Необходимо принять во внимание, что наши эмоциональные состояния претерпели сильную трансформацию благодаря нашему, так сказать, врастанию в культуру. Тут сыграли роль три фактора:
• во-первых, с самого детства нас тренируют контролировать свои эмоции, ведь страх и агрессия — это не только субъективно неприятные эмоции, это ещё и эмоции, которые в социуме не приветствуются, то есть по мере взросления мы учимся рационализировать свои эмоции и таким образом ослаблять их влияние на своё поведение;
• во-вторых, мы, в отличие от наших эволюционных предков, обучаемся языку, что позволяет нам испытывать эмоции не только по поводу тех событий, участниками которых мы оказываемся, но и тех, которые нам только предстоят, — то есть мы представляем, что что-то нехорошее случится в будущем, и заранее начинаем тревожиться, а то даже и злиться;
• в-третьих, мы можем испытывать эмоции в отношении абстрактных, по сути, вещей и явлений — например, ненавидеть фашизм, хотя его глазами не увидеть и руками не пощупать, или, например, бояться, что мы не понравимся другому человеку, не справимся с какой-то задачей. И это страх не физического насилия, не смерти, а чего-то абстрактного, что мы себе воображаем.
А какая часть нашего мозга отвечает за контроль поведения и эмоций, за формирование образа будущего и за абстрактные интеллектуальные конструкции? Разумеется, префронтальная кора головного мозга — высший, так сказать, командный пункт нашей высшей нервной деятельности.
Вот и получается, что, с одной стороны, страх и агрессия вроде бы слепят, приводят к так называемому тоннельному видению, а с другой — страхи, которые нас мучают, риски, которые мы прогнозируем, угрозы, которые вводят нас в состояние стресса, и прочие психологические неприятности — образы, которые генерируются в нашей префронтальной коре.
По-научному это называется «идеаторные страхи» (или тревоги), то есть они порождаются не рецепторикой, не тем, что мы видим или слышим угрозу, а тем, что мы её создаём, конструируем как абстрактный интеллектуальный объект.
Это был первый «инстинкт мышления» — думай, чтобы выжить, спастись. А сейчас мы переходим к другому способу решать задачи, который в основе своей имеет социальный (или иерархический) инстинкт самосохранения.
Задача выживания в группе — это вопрос статуса: чем выше ваш статус в социальной группе, тем шире у вас доступ к ресурсам. Поэтому неудивительно, что стайные животные большую часть времени тратят на выстраивание отношений, создание союзов, конкуренцию за власть.
Выдающийся нидерландский этолог Франс де Вааль, изучавший этот феномен на приматах, даже использовал термин «обезьяний „макиавеллизм“». Он восходит к идеологии итальянского политика и мыслителя Никколо Макиавелли: мол, цель оправдывает средства, а мораль лишь мешает, поэтому цинично манипулируй и добивайся своего.
Звучит, конечно, не слишком лицеприятно для нашего цивилизованного уха, но жизнь в дикой природе такая: кто не спрятался — я не виноват и кто первый встал — того и тапки. Да и бизнес, честно говоря, не место для сантиментов.
В отличие от индивидуального инстинкта самосохранения и от полового инстинкта, социальный является самым эволюционно молодым. Стадами, конечно, и саранча передвигается, и какие-нибудь антилопы гну, но стадо — это не стая, у них совершенно разные принципы функционирования.
Стадо — это толпа: куда все — туда и я; а вот стая — это войсковой строй: строго по чину и по команде. Поэтому, для того чтобы оказаться членом стада, особых мозгов не нужно, а вот для того, чтобы создать группу и выживать вместе, требуются самые сложные мозги.
Кажется, что за социальный инстинкт должна отвечать та же самая префронтальная кора. Да только вовлечена в нашу социальную жизнь не внешняя сторона лобных долей, а внутренняя поверхность обоих полушарий — медиальная — область префронтальной коры головного мозга, а также расположенные рядом с ней области орбитофронтальной коры.
Судя по всему, это связано с локализацией главного, так скажем, социального центра нашего мозга — передней поясной коры. Последняя тесно сообщается и с эмоциональной лимбической системой, и с большими пространствами корковых областей (рис. 2).
Рисунок 2
Расположение «социальных» отделов головного мозга — передняя поясная кора, медиальная префронтальная кора и орбитофронтальная кора
Особенностью передней поясной коры является то, что в ней располагаются специфические — веретенообразные — нейроны, обладающие очень длинными отростками. Учёным удалось обнаружить такие клетки только в мозгах высших приматов и почему-то слонов.
Не знаю, что там со слоновьим мышлением, но веретенообразные нейроны передней поясной коры мозга и в самом деле вызывают восторг. Их отростки, буквально как интернет-кабели, связывают самые значимые с точки зрения мышления области мозга.
Что такое «слои Данбара»?
И раз я упомянул орбитофронтальную кору, то скажу и про её специфическую особенность. В 2012 году группа исследователей из университетов Ливерпуля и Манчестера под руководством выдающегося антрополога Робина Данбара опубликовала научную статью «Объём орбитальной префронтальной коры головного мозга позволяет прогнозировать размер социальной сети».
Тот случай, когда смысл статьи понятен из её названия: чем больше ваш социальный круг, тем больше образов других людей вы должны держать в вашей голове. Теоретически это было понятно и раньше, но данное исследование чётко показало, где эти «другие люди» в вашей голове располагаются — в той самой орбитофронтальной коре, прямо у вас за глазами.
Впрочем, лобными долями наше «социальное мышление» отнюдь не ограничивается. Сюда также относится и та область нашего мозга, в которой локализуется наше представление о самих себе, наше «я».
Не секрет, что «личность» человека является просто набором определённых паттернов поведения, возникающих у нас в процессе нашей социализации, того самого врастания в культуру: мы все, как тот Буратино, были выструганы социальными отношениями из биологического (животного) полена в приличных людей.
То, что мы о себе думаем, — это отражение социального отношения к нам, ну и местечко нашим представлениям о самих себе выбрано в мозге соответствующее — в верхней части височной доли, на границе с теменной, аккурат над островковой долей, что вполне логично, и между двумя речевыми центрами Брока и Вернике, которые я вам уже показывал.
Наконец, мы не мы — без нашего жизненного опыта, а наш жизненный опыт — это люди и наши взаимодействия с ними. Хранилищем нашей памяти являются теменные доли — так называемая третичная ассоциативная кора. Причём «социальная» память локализуется, как и в случае лобных долей, на внутренней — медиальной — поверхности полушарий головного мозга.
Таким образом, наш «социальный инстинкт» заставляет нас думать о людях и отношениях с ними, как о сложных интеллектуальных объектах.
Причём, если сами люди (точнее — их образы) находятся у нас в орбитофронтальной коре, то думаем мы о них в связи с их отношением к нам, к нашему прошлому и будущему, а за эти знания отвечают уже совершенно другие области мозга.
Вспомните сейчас любого человека, которого вы, в целом, неплохо знаете. Какие образы вам приходят в голову? Скорее всего, вы вспомните, когда и где с ним познакомились, с кем из ваших близких он дружен, какие у вас с ним совместные планы, где и чем он занимается и т. д.
Если я вас спрошу об этом человеке, то вы, чуть подумав, станете говорить о его качествах или навыках — мол, хороший парень, в беде не бросит, лишнего не спросит, занимается продажей автомобилей.
Но какие образы стоят за этими абстрактными характеристиками, что вам позволяет так думать? Да, какие-то жизненные сюжеты — ситуации, события, моменты жизни.
То есть вы как бы поднимаете из небытия, из разных отделов своих «чертогов разума» множество разрозненных воспоминаний и создаёте целое поле, целую галерею образов, обстоятельств, примеряете их друг к другу, соотносите одно с другим и лишь затем делаете вывод, который озвучиваете в своём ответе на вопрос.