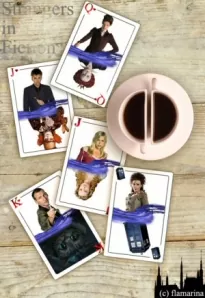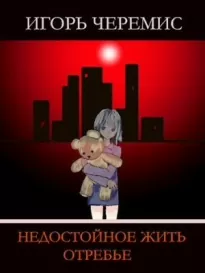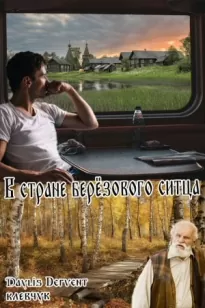Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное
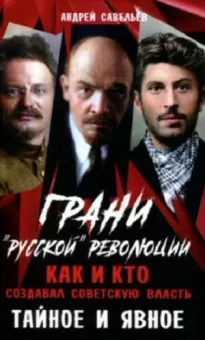
- Автор: Андрей Савельев
- Жанр: Публицистика / История: прочее
Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"
Позднее в своей следующей речи Керенский привел примеры анархии, которая требовала пресечения. В Томске «сами местные демократические организации, утомленные грабежами и насилиями, которые происходили под названием “анархистских”, объявили военное положение и арестовали около двух тысяч людей, замешанных в этих грабежах и насилиях». В Севастополе, под влиянием внезапно вспыхнувшей митинговщины, были арестованы офицеры, и здесь всё обошлось телеграммой Временного правительства, которая предложила властям действовать силой. И командующий Черноморским флотом уложился в 24 часа, чтобы восстановить порядок. И ещё один общий пример: несмотря на отмену смертной казни, «в некоторых городах начинаются расстрелы грабителей и конокрадов, начинается самосуд».
Луначарский (93) в своём выступлении разражается на это убийственной фразой Маркса: «Несчастие демократических партий заключается в том, что они переполнены прекраснодушными разговорщиками, и в то время как они говорят красивые слова великодушия, реакционеры, которые являются людьми дела, под сенью их слабодушия подготовляются свернуть им шею».
Луначарский предлагает резолюцию от имени революционных социал-демократов-интернационалистов, где требует упразднения Государственной Думы и Государственного Совета, которые никем распущены не были и имели законное право на существование. К кому было направлено это требование? Института, который бы позволял ликвидировать эти органы, не существовало. Подобное действие было бы чистой узурпацией, но именно этого и желали радикальные марксисты: провозгласить новую власть, которая будет устанавливать новые законы и упразднит остатки прежней институциональной структуры государства – причём, без всяких Учредительных собраний и имитации общенародной воли. Действительно, революция есть узурпация. Игры в демократию, свойственные меньшевикам и Временному правительству, уже переступили через все законы, но не были в состоянии оформить демократические институты. Оставалась только узурпация, и вопрос состоял лишь в том, кто узурпирует власть целиком и полностью – вопреки всем «разговорщикам».
Вторая резолюция, озвученная Луначарским, предложила конкретный механизм трансформации органов власти – создание Временного Революционного Парламента, который будет контролировать деятельность ЦИК, которому и должна быть передана вся полнота власти. Съезд должен из своей среды избрать парламент численностью 300 человек с пропорциональным фракционным представительством. Петроградскому Совету выделяется дополнительная квота в 100 мест. Такая же квота предлагается Всероссийскому Совету Крестьянских Депутатов. Парламент выдвигает из своей среды Исполнительный Комитет, ИК назначает своих министров. А потом власть начинает формироваться «сверху» – старый аппарат замещается «новым революционным и народным», организуются губернские и областные Советы, которые посылают своих представителей в парламент – по одному человеку.
Именно это и называлось большевиками «властью Советов». Фактически это означало созданную «верхами» самозванцев, собранных «левыми» партиями Советов, которые охватывали ничтожную часть населения. Диктатура – это ни с какими народными массами не связанное правительство при формальном парламентском контроле, который не был народным представительством и служил лишь символом фиктивной народности.
В дальнейшем большевики реализовали именно эту схему, продолжая говорить о союзе пролетариата с революционной частью крестьянства и армии. На деле же никакие «классы» не вступали в союзы. Фиктивные представительства создали фиктивный (поначалу двухпартийный, а через полгода уже однопартийный) парламент, формально передав власть в руки СНК, который устроил в стране гражданскую войну с целью подавления всех без исключения политических сил и установления тиранического режима, подчиняющего верхушке большевистской партии всё населения страны.
Чернов (102), ещё один временный министр, выступил с рекордной по длительности речью, не будучи прерываем по причине многократного истечения регламента. Поэтому он коснулся вообще всех вопросов – с той безответственной поверхностностью, которая выявляет профана, некрепкого вообще во всём, кроме витиеватости словесных конструкций.
Вопросы государственного строительства министр затронул лишь в конце своей речи, критически отнесясь к конструкции построения классовой власти «сверху». Он назвал этот подход «ценз навыворот», имея в виду, что прежний царский режим имел «цензовую» природу – привилегии для одних классов и унижение для других. Теперь большевики предлагали то же самое – разделение на классы с различными цензовыми привилегиями и уничтожение всего, что не входит в Советы. Более того, Чернов даже где-то слышал, что и Советы уже не годятся, потому что в них классовые организации сливаются «в явно противоклассовую, смешанную, пеструю, винегретную организацию». Он напомнил, что Французская революция проиграла, поскольку неуклонно сужала социальный базис своей власти. Классовое противостояние в таком случае неизбежно завершится «генералом на белой лошади» – т о есть диктатурой.
Также Чернов коснулся конструкции государства, считая необходимым и очевидно-необходимым для Съезда опираться на «великий принцип децентрализации, автономизма, федерации». Что означает «сотрудничество народов под свободною широкою кровлею, дающей полную свободу проявления каждой отдельной народности». Противоположностью этого принципа он объявляет «сепаратный подход»: «или извольте отделяться, тогда совершенно отделитесь, или извольте подчиняться централизации и совершенной централизации». Как «левый» демократ, он, разумеется, не считает приемлемым третий путь, о котором даже не упоминает: любой сепаратизм должен быть подавлен любыми средствами, включая тяжелую артиллерию.
Мартов (46) – один из безнадежных говорунов – не преминул вступить в дискуссию о Французской революции, объявив, что она расчистила почву для дальнейшего развития демократического общества, а её смысл состоял в том, что её лидеры только и делали, что на разного рода форумах обличали перед народом опасности «справа». Чем, в общем и целом, занимался сам Мартов, всю свою жизнь не умевший ничего, кроме такого обличения. Как теоретик он возразил Керенскому, заявив, что марксизм вовсе не исключает меры насилия к классовому противнику, но отвергает насилие по отношению к друзьям революции. В последнем он ошибся – практически все заметные фигуры революционеров, которых он мог видеть на трибуне в 1917 году, были подвергнуты насилию и не пережили Большого террора. Пожелание осталось пожеланием. Когда были истреблены противники революции «справа», их нашли также и «слева».
Видимо, Мартов по умолчанию считал, что все репрессивные меры Временного правительства исходят от «правых», что не соответствовало действительности. Он особенно был недоволен проектом введения ответственности за публичные призывы к неповиновению законной власти. И резонно ставил вопрос: что это, собственно, за власть? Что Временное правительство – это узурпаторы, было вполне ясно всем. Всё, что в этом правительстве было властного, могло утверждаться и защищаться только диктаторскими методами. А все попытки быть верными революционной демократии делали правительство бессильным. Мартов был против диктатуры и за демократию. Из чего следовало разрушение государства, разу уж в нём не было законной власти – всякая группа могла призывать к свержению правительства и утверждать свои собственные правления где угодно. Таким образом, порядок революции – э то последовательно проведенная анархия.
К этому Мартов добавил свой призыв к уничтожению Государственной Думы – у неё-то была легитимность, пусть и не первой свежести. Кто же и как должен был уничтожить законно избранный парламент? Видимо, силы революции, если Дума, пусть даже и организовавшая революцию, объявлялась контрреволюционной. Но в таком случае в гражданской войне должны были сойтись две революционные силы – те, кто совершил революцию в Феврале, и те, кто требовал продолжения революции и ликвидации прежних институтов, обеспечивших революцию.
В порядке абстрактной мечтательности Мартов высказал идею: «Нужно, чтобы мы получили орган, объединяющий всю программу революционных сил, дающий возможность планомерного постепенного воздействия на то правительство, которое будет стоять у власти».
Мартов – противник создания коалиционного правительства, хотя и признает, что «вся власть в стране может быть сконцентрирована в руках революционного правительства». Но если уж коалиционное правительство образовалось, то надо ясно выразить требования Съезда – во всех вопросах. К этому и сводится государственная система по Мартову: нужно держать над головой правительства молот революционной демократии в виде органа такой демократии. «Молот» обнаружился позднее, расплющив серией бестрепетных ударов и Временное правительство, и всех «левых» демократов. «Молот», как выяснилось, – это не какой-то орган, а целая система мер диктатуры.
В ответ Мартову Церетели (99) выставил упрек: одно дело правительственные решения, другое – газетные публикации, которыми воспользовался оратор. Газетные слухи, конечно, должны опровергаться. Но почему же не опровергаются слухи о стремлении некоторых партий и политиков об их стремлении к сепаратному миру? Что касается правительства, то оно пока не может создать учреждение, которое будет опровергать ежедневно возникающие слухи. Почему же? Следует предположить, что Церетели среди незыблемых политических догматов числил беспредельную свободу слова, в которой даже призывы к свержению революционного правительства не могли преследоваться. Хотя он знал, что Французская революция за это расстреливала. Это Церетели считал ошибкой и не собирался перенимать. Что означало, конечно же, зыбкость позиции Временного правительства – оно было открыто для ударов клеветников, которых читающая публика с удовольствием слушала.
Брамсон (90) от трудовиков впервые задается вопросом о том, зачем министры выступают перед Съездом. Они должны были бы дать отчет о своей работе, за которую они отвечали лично. Но оказывается, что Скобелев и Церетели должны ездить по митингам и разрешать текущие вопросы – вроде тех, что возникают в связи с самопровозглашаемыми здесь и там микро-республиками. Почему же это так? Потому что у них есть опыт революций на Западе, и поэтому приходится поступать «по заветам» этих революций. То есть, Брамсон неотразимо обвиняет министров, но тут же их оправдывает: митинги главнее продуктивной работы в правительстве. С одной стороны реакция, с другой – анархическая демагогия. Предложенные аресты фабрикантов и разгон совещаний остатков Думы – вот и всё, что было предложено министрам со стороны Съезда.
Оратор пытается сформулировать задачи «революционной работы», явно придумывая их на ходу. Для этого он распределяет революционные события по трем периодам. В первом требовался натиск, необходимо было сажать под замок всех противников революции и «с корнем вырывать» остатки старого режима. Второй период – обеспечение представительства революционеров во власти и уже после этого – избавиться от разлагающей критики, которой по привычке подвергалось любое правительство. Третий период – нынешний, когда власть не смогла справиться со стоящими перед ней задачами. И что же из этого следует? Вот что: «нужно облечь власть силой и авторитетом во всем объеме, как это подобает революционной власти; мы должны содействовать этому за страх и за совесть от имени российской революции». Все закончилось общими словами. Оратор не готов предложить ничего конкретного.