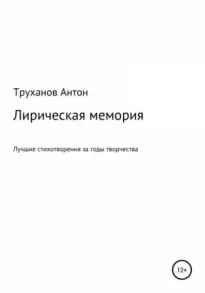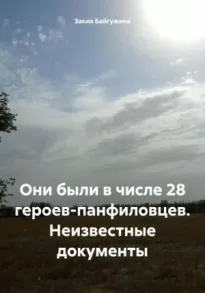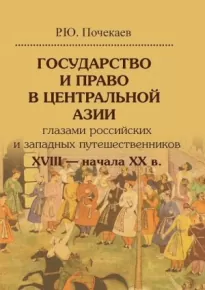Истоки инквизиции в Испании XV века
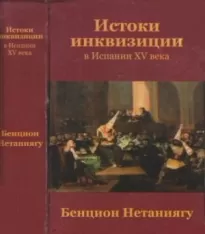
- Автор: Бенцион Нетаньяху
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2015
Читать книгу "Истоки инквизиции в Испании XV века"
IV
Предположить, что Кастилия, чья политическая традиция противилась такой доктрине, примет новый порядок без протеста, было абсолютно нереальным. Действительно, даже если бы сам король был знаменосцем и пропагандистом этого принципа, все равно он, вне всякого сомнения, рано или поздно столкнулся бы с серьезной оппозицией в определенных местах. Теперь же, когда король своим слабым выступлением продемонстрировал качества, противоположные приписываемой ему силе, а человек, который на самом деле продвигал этот ненавистный принцип, был не король, а его первый министр, было легко атаковать новую политику на почве того, что она была не чем иным, как маневром Альваро де Луны, чтобы захватить абсолютную власть для самого себя. Освободив таким образом короля от упреков, борьба против абсолютной монархии могла быть представлена как борьба за легальную монархию против узурпатора, который стремился поднять права королевской власти над тем, что закон и политическая традиция когда-либо позволяли в Испании.
На этом аргументе строилась кампания антагонистов Альваро. В этом была их сила, и в этом же была и их слабость. На это Альваро мог возражать, что препирательства грандов — не что иное, как предлоги для того, чтобы убрать его с его поста и таким образом достичь своей цели, которая на самом деле не защита короля от него, Альваро, а скорее захват полного контроля над правительством и желание оставить короля практически беспомощным. Наверняка города будут возражать такому будущему еще больше, чем они возражают против сильной монархии, и благодаря их позиции в этом вопросе Альваро мог достичь политического баланса и сохранить свое положение правителя Кастилии. Следует, тем не менее, отметить, что долгие годы Альваро воздерживался от неприкрытого высказывания крайних взглядов своей политической философии. Стараясь развеять опасения оппозиции, он с завидной осторожностью скрывал свои окончательные цели во всем, что касалось формальной позиции. Однако накануне битвы при Ольмедо он отбросил всю политическую осторожность. Он заставил кортесы принять доктрину божественного права и затем применил ее к баронам и городам. Его непреклонная решимость применения абсолютистского принципа как правила административных действий означала, что все имеющиеся права и привилегии полностью потеряют силу, если король сочтет необходимым не принимать их во внимание. Это означало принятие строгих мер, которые слишком часто выглядели деспотическими и бесцеремонными, что города не были готовы терпеть. Это и было большой ошибкой Альваро. Он слишком быстро и слишком далеко пошел в своих усилиях превратить принципы Ольмедо в политическую реальность. Когда дело дошло до настоящего испытания, Кастилия не была готова принять это, и результаты оказались неизбежными. Гранды проявили новые признаки непокорности в 1448 г., а города стали неспокойными[1850]. Это приводит нас обратно к цепи событий, которые связывают политику Альваро с тем, что случилось в Толедо в 1449 г.
Поскольку это касалось монархического режима Кастилии при Хуане II, толедское восстание выразило чувства огромного большинства. Хотя элита толедского общества была готова предоставить Альваро «заем», который он просил, ясно, что они это делали с явным нежеланием. А когда низшие классы взбунтовались, то высшие классы в Толедо и во всей стране отреагировали зловещим молчанием. Если большинство элиты не заняло сторону мятежников, то точно так же оно не заняло сторону короля и Альваро. Они, возможно, не были в восторге от Сармьенто, его тактики и правления, но они поддержали большую часть его декларативных целей и были рады тому факту, что королю и Альваро преподали урок, который те запомнят. Они, безусловно, верили в то, что события в Толедо приведут к смене правительственной системы и предотвратят будущие попытки подкованной шипами администрации гарцевать на городских правах.
До этого момента Маркос Гарсия де Мора определенно был выразителем чувств толедцев. И он мог это делать именно потому, что был не противником монархии, а типичным, хотя, возможно, и несколько радикальным, представителем партии, ратующей за ограниченную монархию и верховенство закона, основанного на старых традициях, или же нового, созданного на представительной ассамблее обоюдным согласием короля и народа. Поэтому он так часто цитирует в «Докладной записке» юридические авторитеты, которые поддерживают его взгляды[1851], и поэтому он упоминает, особо подчеркивая, закон, принятый на кортесах в Бривиески[1852]. Эти цитаты указывают на то, за что велась борьба. То не была борьба за отмену монархии, а за то, чтобы поставить ее под власть закона — и это значило отнять у монархии право не обращать внимания или действовать не в соответствии со старыми законами или теми, что получили поддержку на кортесах. Давайте снова отметим слова Гарсии: «Восстание не было направлено — и не могло быть направлено — против личности короля, потому что жители этого города прекрасно знают, что сказанный король — их король и господин по праву, они также знают, что они его естественные подданные и таковыми хотят быть»[1853]. Из этого следует, что, если город восстал против короля (или если смотреть на это шире, против королевской власти), это должно быть «проклято и осуждено»[1854]. Но город восстал не против власти короля, которая законна, а против абсолютизма, который противозаконен. Поэтому «те, кто говорят, что город Толедо и его жители совершили проклятый и осужденный мятеж, не говорят правды. Они лгут, как предатели, лизоблюды, разрушители, и как те, что своей лестью, вероломством и ложью заставляют короля грешить и верить в то, что ему дозволено использовать абсолютную власть»[1855].
То, против чего стоял Маркос Гарсия де Мора, было абсолютной монархией. Но его неприятие антимонархического восстания и оправдание толедского мятежа — или, скорее, сопротивления мятежников власти Хуана II — помогает нам понять его политическое мышление и правильно определить течение мысли, с которым его следует идентифицировать. Политические теоретики, начиная с XII в., продолжали подчеркивать разницу между королем и тираном и нашли допустимым свержение тирана силой на различных основаниях. Для этих мыслителей тирания, конечно, не являлась синонимом Божественного Права, а скорее рассматривалась как владычество без права, божественного или людского. Они действительно верили в то, что божественное и людское право, как основа монархической системы, могут быть узнаны по королевским декретам, которые направлены на общественное благо, и, следовательно, природа этих декретов представляет собой тест настоящего полноправного и справедливого короля. Этот взгляд был следующим образом сформулирован Фомой Аквинским: «Тирания неправедна потому, что она определена не к общественному благу, а к частному благу одного правителя»[1856]. Определение принадлежало Аристотелю[1857], и еще до Фомы Аквинского оно было повторено в Средние века такими ведущими церковными мыслителями, как Исидор Севильский[1858] и Иоанн Солсберийский[1859]. Но «личная польза», как цель тирана, перестала быть настоящим признаком тирании. По сути, средневековые юристы согласились, что король, который ставит себя превыше закона, в конце концов начнет действовать против закона, и, следовательно, против интересов общества, что неизбежно сделает из него тирана. Знаменитый английский юрист XIII в. Брактон сказал: «Там, где нет закона, а просто правление, там нет короля»[1860], а Бартоло, ведущий итальянский юрист, решительно поддерживает этот вывод, когда определяет тирана как того, «кто правит не в соответствии с законом» (де-юре)[1861].
Таким образом, Гарсия с легкостью мог извлечь из средневековой политической традиции заключение, что восстание против тиранов — не преступление, и более того, абсолютная монархия и тирания — практически синонимы. Но он мог извлечь и нечто более радикальное, а именно то, что вооруженное сопротивление тирании не только разрешено, но и предписано законом, и, по существу, требуется им. На деле, «когда граждане оказывают такое сопротивление», говорит он, они не только защищают самих себя, но и «служат своему господину, королю тем, что не позволяют ему действовать против Бога и самого себя»[1862]. В поддержку этого аргумента он цитирует целый ряд законов, церковных и гражданских, и в их числе экстравагантный закон Ad reprimandam, который осуждает мятеж с враждебными намерениями против личности короля[1863], откуда, по его мнению, ясно, что этот закон не осуждает восстание, осуществленное без такого намерения, но просто с целью предотвращения или обуздания превышения королевской власти. Он также ссылается на законы «Партид», не указывая их конкретно и не представляя их содержание. Мы все же должны ознакомиться с этими законами, потому что вокруг них в Испании разгорелись противоречия по поводу восстаний в десятилетие, предшествовавшее толедскому бунту.
Начать с того, что пятый титул второй «Партиды» гласит, что король должен первым соблюдать закон[1864], а в десятом законе первого титула, Второй партиды (после описания природы тирана) в основном, согласно определению Аристотеля[1865], утверждается, что «хотя бы кто-либо и получил сеньорию или королевство одним из способов, описанных нами выше, в предыдущем законе, но если он будет дурно использовать свою власть, как мы сказали в этом законе, то народ сможет назвать его тираном, и превратится его сеньория из правой в преступную». Но двадцать пятый закон титула XIII Второй партиды идет дальше всего в этом плане. Он говорит о необходимости народа следить за своим королем, и там сказано:
И эта защита должна быть оказана двумя способами. Во-первых, советом: показывая и приводя причины, по которым он не должен это делать. Во-вторых, делом: изыскивая пути, чтобы заставить его возненавидеть и оставить это, не доведя до конца, а также препятствовать тем, кто советует ему поступать неверно. Так как если они знают, что это неправильно или может повлечь за собой вред, они поступают еще хуже, чем кто-либо другой, и потому им подобает оберегать его, чтобы он этого не сделал. И защита его от самих себя, как Мы сказали, заключается в умении оберегать душу и тело, показывая себя добрыми и верными, и желая, чтобы их сеньор был благополучен и преуспевал в своих делах. И потому те, кто мог уберечь короля от этих вещей, но не пожелали этого сделать, позволяя ему сознательно совершать ошибки и наносить урон своему имуществу из-за позора, которому он подвергается перед людьми, совершают открытое предательство.
Этот закон, который говорит об обязанностях подданных защитить своего короля от него самого, если он идет ложным путем, который предписывает им «препятствовать» плохим советникам так, чтобы предотвратить его дурные поступки, закон, который налагает эту обязанность на них вплоть до обвинения в предательстве тех, кто игнорирует его, — являет собой одну из самых замечательных деклараций средневековой политической литературы. Ясно, что в этом случае подданные любого класса — так сказать, «члены тела» — принимают на себя функцию «головы», которую они, члены, должны исполнять. Это они — т. е. члены — теперь определяют, что хорошо, а что плохо, правильно или неправильно, и они должны использовать все средства, имеющиеся в их распоряжении, кроме насилия, чтобы предостеречь короля от совершения того действия, которое они считают ошибочным. Этот закон цитировали мятежные бароны в оправдание своих действий[1866], и именно этому закону Хуан II противился с наибольшей силой на кортесах в Ольмедо, когда он установил принцип божественного права[1867]. Не может быть сомнения в том, что именно этот закон имел в виду Гарсия, когда сослался на «Партиды»[1868]. Пока что он подчеркивал, что толедское восстание, прежде всего, было не против короля, но против «скорпиона», Альваро, который искажал волю короля. Тем не менее он добавил, что даже в тех случаях, когда приказы Альваро «исходили из собственной воли короля», они должны рассматриваться как «несуществующие или ужасающе несправедливые» и «акты, совершенные королем против самого себя», и в таком случае «подданные не только не обязаны исполнять их, а должны сопротивляться их исполнению»[1869]. Только путем такого сопротивления они могут служить своему господину, королю[1870], в то время как исполняя его приказы, они совершают великий грех не только перед Богом, но перед королем[1871].
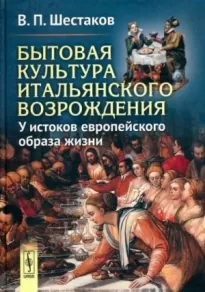
![Замечательные числа [Ноль, 666 и другие бестии] (Мир математики. т.21.)](/uploads/covers/2023-04-13/zamechatelnye-chisla-nol-666-i-drugie-bestii-mir-matematiki-t21-201.jpg-205x.webp)