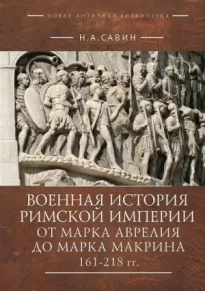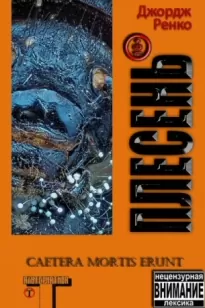Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика

- Автор: Софья Хаги
- Жанр: Критика / Языкознание
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика"
Собственная временная шкала
Вместо того чтобы лить бальзам на историческую травму, утешая себя и читателей тем, что все могло сложиться иначе и лучше, Пелевин в «Хрустальном мире» задается, пусть и в пародийном ключе, вопросом, что именно могло произойти и почему. Со временем альтернативно-историческое воображение Пелевина все дальше отходит от шаблонов альтернативной истории. В романе «Чапаев и Пустота» (1996) мы имеем дело с более сложным и оригинальным переосмыслением этого жанра.
Именно потому, что «Чапаев и Пустота» далеко отходит от традиционного художественного произведения на историческую тематику, некоторые рецензенты ошибочно истолковали этот новаторский текст как привычный исторический роман, изобилующий недостоверными деталями. Павла Басинского, например, шокировало, что «Чапаев во фраке пьет шампанское и рассуждает на темы восточной мистики, Котовский нюхает кокаин, Петька и Анка во время полового акта спорят о Шопенгауэре»388. Изображение Гражданской войны в романе, по словам Басинского, оскорбляет «каждого различающего и уважающего свое национальное, профессиональное, то есть в конце концов культурное, лицо человека».
Позднее критики – как часто бывает, задним числом – отметили, что обвинять «Чапаева и Пустоту» в исторической неточности нет оснований, поскольку автор никоим образом не стремился к правдоподобию389. Очевидно, что перед нами не классический исторический роман, а плод альтернативно-исторического воображения, текст, пропитанный постмодернистской пародией и игрой. Вот почему Розалинд Марш рассматривает его в контексте постмодернистской историографической метапрозы (как ее определяет Линда Хатчеон), где известные исторические личности или события намеренно изображены в искаженном виде – как намек на недостоверность исторических хроник и возможность ошибки. Этот жанр «не ассимилирует исторические факты, привлекая внимание к разрыву между историей и вымыслом, и подталкивает к вопросам: откуда мы узнаём о прошлом? Можем ли мы вообще что-то о нем знать? Что мы знаем сейчас?»390 Историографическая метапроза «оспаривает природу исторического знания, отвергая представление о линейности времени, сочетая реальное и фантастическое, сталкивая исторических персонажей из разных эпох»391.
Однако новаторство «Чапаева и Пустоты» бросается в глаза даже по меркам постмодернистской, фантастической и альтернативной истории. Хотя роману присущи черты историографической метапрозы, в частности смешение реальности и фантазии, нелинейность времени и дезориентация в пространстве, у этого намеренного неправдоподобия и пространственно-временных искажений другая цель. Из истории известно, что красный командир Василий Чапаев был ранен в боях с Белой армией и утонул при попытке переплыть реку Урал. В романе он сражается с белыми (и с красными) и покидает реальность, бросаясь в УРАЛ (Условную Реку Абсолютной Любви). Здесь действуют и другие знакомые фигуры: Петр, Анка, Фурманов и Котовский, – но их социальное происхождение, поведение, взгляды и мотивы далеки от читательских ожиданий392.
Несомненно, пелевинскую версию «биографии» Чапаева можно воспринимать как пародию, противопоставленную шаблонному образу, созданному советской литературой и кинематографом – романом Дмитрия Фурманова «Чапаев» (1923) и одноименным фильмом братьев Васильевых (1934). Но созданный Пелевиным подчеркнуто эксцентричный образ красного командира – аристократа и буддистского гуру едва ли можно расценивать как попытку серьезно ответить на вопрос, откуда нам известно прошлое. В какой-то мере «Чапаев и Пустота» содержит элементы криптоистории (она же тайная, или конспирологическая, история), где знакомые фигуры и факты предстают в непривычном ракурсе, якобы обнаруживающем скрытую истину. Так, некоторые достоверно известные исторические события в романе объясняются иными причинами и целями, а об отдельных обстоятельствах заявлено, что их ранее замалчивали и только теперь на них удалось пролить свет393. Но когда вымышленный редактор в предисловии к книге заявляет, что намерен раскрыть «правду о Чапаеве», утаенную «от народов Евразии», он не претендует всерьез на ревизионистскую трактовку событий, а скорее намечает пародию на неоевразийство в романе394. Характерные для постмодернизма черты – вышучивание основ советской идеологии, мотив непознаваемости истории, история как текст(ы) – в романе тоже присутствуют, но не они в первую очередь занимают Пелевина.
«Чапаев и Пустота» и не образец собственно альтернативной истории, потому что автора больше занимают другие проблемы: устройство человеческого сознания, несвобода и возможность из нее вырваться, буддизм, солипсизм и так далее. Произведения в жанре альтернативной истории строятся на том, что читатель прослеживает волновой эффект, накладываемый на дальнейший ход истории явным изменением ее существенного звена. «Обязательное условие альтернативной истории заключается в том, читателю очевидна разница между вымышленной хроникой и реальной»395. В отличие от «Хрустального мира» (где выбран конкретный момент, но читательские ожидания обмануты), в «Чапаеве и Пустоте» нет определенной точки, где события отклоняются от исторического курса, как нет и гипотетического их развития, которое могло бы стать следствием такого отклонения. Обстановка сумасшедшего дома обрамляет события, находящиеся вне общего течения истории. Описанные в романе превращения связаны с альтернативной версией не столько исторических событий, сколько исторических персонажей: например, Чапаев и Петька, большевики из простого народа, оборачиваются своими аристократическими двойниками, первый – воином-философом, второй – поэтом-декадентом.
«Чапаев и Пустота» – не вариация на тему альтернативной истории, а роман, где альтернативно-историческое воображение с самого начала направлено в русло занимающей Пелевина проблематики, а сама альтернативная история выступает как объект метарефлексии. Редактор, в предисловии упоминающий варианты заглавия рукописи Пустоты, одновременно вписывает текст в традицию альтернативно-исторического воображения и указывает на реальный предмет интереса Пелевина:
Мы изменили название оригинального текста (он озаглавлен «Василий Чапаев») именно во избежание путаницы с распространенной подделкой. Название «Чапаев и Пустота» выбрано как наиболее простое и несуггестивное, хотя редактор предлагал два других варианта – «Сад расходящихся Петек» и «Черный бублик»396.
Если вариант «Черный бублик» предвосхищает важную для буддизма идею пустоты, то «Сад расходящихся Петек» – аллюзия к рассказу Хорхе Луиса Борхеса «Сад расходящихся тропок» (El jardín de senderos que se bifurcan, 1941)397. В рассказе некий Цюй Пэн представляет себе время с бесконечным числом развилок, ведущих к бесчисленным вариантам будущего. В этой модели реализуются все возможные исходы каждого события, а любое событие обрастает новыми разветвлениями возможностей. Когда перед человеком встает выбор из множества вариантов, он не выбирает один, отбрасывая остальные: «…Он выбирает все разом. Тем самым он творит различные будущие времена, которые в свою очередь множатся и ветвятся»398.
Игра слов «тропок» – «Петек» в предисловии сигнализирует о едва заметном, но существенном сдвиге: «Чапаев и Пустота» – текст не столько о разветвлениях «большой истории», сколько о разветвлениях индивидуального сознания. Поэтому, когда в романе Пустота заявляет Чапаеву: «Мне не понравился их комиссар, этот Фурманов. В будущем мы можем не сработаться», – тот отзывается: «В будущее, о котором вы говорите, надо еще суметь попасть. Быть может, вы попадете в такое будущее, где никакого Фурманова не будет. А может быть, вы попадете в такое будущее, где не будет вас»399.
Архитектонику романа организуют два пространственно-временных плана – Гражданская война в России и постсоветские девяностые. С позиций «здравого смысла» действие разворачивается на окраине постсоветской Москвы, где Петра Пустоту, вообразившего, что где-то в 1919 году он сражался бок о бок с Чапаевым, лечат от шизофрении в психиатрической больнице400. При таком прочтении раздвоение его личности призвано подчеркнуть параллели между послереволюционным и постсоветским периодами. В конце концов, перекличка налицо даже на уровне цифр: чтобы 1919 превратилось в 1991, достаточно поменять местами девятку и единицу. В «Чапаеве и Пустоте» Пелевин обращается к двум важнейшим переломным моментам в российской истории ХX века, симметрично расположенным в начале и в конце столетия, и проводит аналогии между крушением Российской империи и распадом Советского Союза. Но его интересуют не столько насущные политические проблемы, сколько более общие исторические закономерности. В частности, бедственное положение интеллигенции после Октябрьской революции рифмуется с упадком культуры и растерянностью постсоветской эпохи401.
Вразрез с марксистской телеологией история России в романе движется по кругу (похожему на бублик) – или, того хуже, вниз по спирали402. В финале, когда Пустота вновь возвращается на Тверской бульвар уже в 1990-е годы, исчезновение Страстного монастыря и мнимый демонтаж памятника Пушкину (Пустота не замечает памятник, перенесенный со своего первоначального места на другую сторону Тверской) наделяются символическим значением. Если в 1919 году бронзовый Пушкин «казался чуть печальней, чем обычно – оттого, наверно, что на груди у него висел красный фартук», в 1990-е «зияние пустоты, возникшее в месте, где он стоял, странным образом казалось лучшим из всех возможных памятников»403. Новый коллапс общества оставил по себе еще меньше следов цивилизации и надежд для той части населения, желания которой не ограничивались элементарным выживанием.
«Чапаев и Пустота» заостряет внимание на травмах российской/советской истории ХX века. С этой точки зрения раздвоенное сознание Пустоты можно интерпретировать как стремление Пелевина обыграть механизмы адаптации, позволяющие справиться с травмой. Случившееся в 1990-е годы нарушение исторической преемственности поселяет в сознании героя сомнения относительно собственного места в окружающей действительности. Хаос и разочарование первых лет после распада СССР заставляют Пустоту искать прибежища в фантазиях о Гражданской войне. Пелевин, проницательно интерпретирующий собственное творчество, вкладывает в уста психиатра Тимура Тимуровича, беседующего с Пустотой, красноречивый комментарий. Пациент «принадлежит к тому поколению, которое было запрограммировано на жизнь в одной социально-культурной парадигме, а оказалось в совершенно другой». Поэтому он «так и остается выяснять несуществующие отношения с тенями угасшего мира»404.
В «Чапаеве и Пустоте», как и в «Хрустальном мире», Пелевин размышляет об исторической травме (а не просто отражает ее). Точнее, роман поднимается до более сложно устроенного текстуального препарирования травмы, намечая пути переработки болезненных для психики переживаний. Можно истолковать «Чапаева и Пустоту» в несколько ином, хотя тоже «рациональном» ключе – как аллегорию истории, уходящей в личное пространство, поскольку история общества уже не сулит радужных перспектив. Из такой трактовки вытекает, что Пустота отказывается от участия в общественной деятельности и бежит от унылого постсоветского существования в частную жизнь – в иллюзии и грезы.