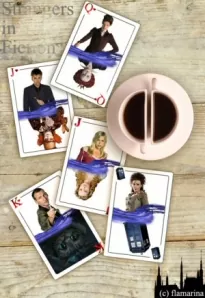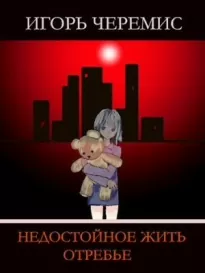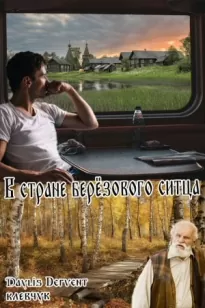Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное
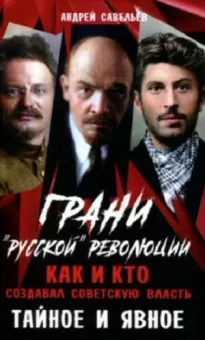
- Автор: Андрей Савельев
- Жанр: Публицистика / История: прочее
Читать книгу "Грани «русской» революции. Как и кто создавал советскую власть. Тайное и явное"
Лидер эсеров Камков (325) использует тему для продолжения ругани предыдущего Съезда. Его пафос сводится к тому, что все кажущиеся Троцкому беспорядки связаны со «здоровой революционной психологией тех, кто не поддался на эту удочку передышки». То, о чём рассказывает Троцкий, происходит в любой роте. Потому что «они по вашему приказанию не желают быть молчаливыми свидетелями того, как германский империализм расстреливает русских рабочих и крестьян». Имеется в виду Украина и условия германской оккупации, о которой в начале Съезда говорил нелегально приехавший оттуда делегат. Подыгрывая большевикам, раздувающим скандал вокруг пустяков и надуманных страхов, Камков говорит: «наша партия будет поддерживать здоровое революционное движение среди рабочих и крестьян».
Ещё больше обостряет ситуацию Зиновьев, объявляющий: «нас тянут в войну». Большевики приветствуют его овацией. Зиновьев объявляет, что «здоровая революционная психология» приписывается Камковым бандам. И уже совсем переходя в открытую конфронтацию: «если желаете проверять совесть нашей партии на этой почве (шум на местах), если желаете поднять бой, то мы охотно этот бой принимаем. Я ставлю вопрос: поднимут ли они перчатку, брошенную т. Троцким?»
Разогрев публики происходит удачно – левые эсеры проглотили наживку и забыли, зачем вообще собирался съезд. После короткого перерыва перепалка продолжается.
Спиридонова (326), сначала вроде бы заметившая, что вопрос незначительный, отвечает на него в духе предыдущего оратора: «Мы этот бой, партия лев. с.-р. и авангард трудового крестьянства, авангард пролетариата (смех. аплодисменты), мы этот бой, товарищи-большевики, перед лицом всего интернационала, перед лицом растоптанных братьев украинцев, растерзанных финляндских братьев, рабочих и крестьян, перед лицом всех трудящихся всего мира, которые ждут от нас, чтобы мы боролись, а не стояли на коленях, – мы этот бой с товарищами большевиками принимаем. (Аплодисменты.)» Потом она пытается напомнить большевикам, что левые эсеры были с ними на одних баррикадах, и о том, что в своё время Ленина называли немецким шпионом, а теперь всё воспроизводится «со стенографической точностью»: «даже слова одинаковые, ответственный представитель даже обвиняет в том, что там агенты, негодяи, подстрекатели, что там подкупы, что там банды, говорят языком Мирбаха, который расстреливает наши партизанские отряды из крестьян, растерзанных, обманутых». Она призывает не повторять приемы меньшевиков и правых эсеров и бороться честно – не затыкать левым эсерам рты. Тем более что «здешнее большинство сейчас против нас, левых эсеров, но всё большинство в стране сейчас против Советской власти»; «дайте нам биться по всей линии, а потом уже выносите свои постановления, какие угодно: революционный Трибунал, казнь смертную, расстрелы».
Троцкий, выступая в защиту своей позиции, не признает призывов к единению: «нам указывали на то, как с нами братались в разные эпохи. Я помню, что в тот период, когда мы с уголовными братались в тюрьмах при правительстве Керенского, та партия, от которой выступала Спиридонова, принимала участие в фирме Керенского». В октябре, как заявляет Троцкий, «лев. с.-р. заявили, что они этого восстания поддерживать не будут». Камков кричит из зала: «Врете, лгун!» Но Троцкий продолжает бесить оппонентов: «…лев.
с.-р. оставили работу в революционном комитете и взяли оттуда всех своих работников, кроме тех, которые остались там самостоятельно. Точно так же, когда мы однажды поддались их призыву создать общую власть, они ответили: мы войдем только, если войдут меньшевики и правые с.-р. Вот как они ответили. Правда, мы были склонны в известный период многое прощать этой партии и забывать». И вставляет новый «факт»: «в Тамбове, где уездный съезд лев. с.-р. постановил против нашей фракции водку населению раздать…» И ещё – о дисциплине латышских стрелков и каких-то группах по 20 человек (народ, полагать, эсеров) которые переходят демаркационную линию, чтобы зарезать 2–3 немецких солдат. Пафос: «это есть постыднейший импрессионизм в политике!» И по поводу расстрелов: «целая партия без достаточных оснований сочла нужным нести свой испуг сюда, в этот зал, и сказать: мы знаем, вы хотите нас расстрелять: дайте нам последнее слово, выслушайте нас». И дальше: «Не для того мы брали власть, чтобы отдельная группы неврастеников, группы интеллигентов срывали рабоче-крестьянский класс страны». Большевики приветствуют всю эту провокацию громом аплодисментов.
Наконец, из-под спуда извлекается давно заготовленный проект резолюции, розданный только во фракции большевиков. Главное в нём: «очистить все красноармейские части от провокаторов и наемников империализма, не останавливаясь перед самыми решительными мерами». Левые эсеры отказываются голосовать. Резюме итогов голосования из президиума: принято единогласно.
На следующий день систематическое изничтожение эсеров продолжается в докладе председателя ВЦИК Свердлова. Сначала говорится об ударе со стороны «нашими в то время ближайшими и единственными друзьями Советской Республики, лев. с.-р., – удар, нанесенный ими их уходом из Совета Народных Комиссаров, отразится существенно на нашей практической работе». Затем – о том, что поначалу работа во ВЦИК шла без конфликтов между коммунистамибольшевиками и левыми эсерами, но к следующему съезду почти ни по одному вопросу столковаться уже не могли. «Обычно против нас голосовали дружно вместе с лев. с.-р. и другие правые партии до момента своего изгнания из среды ЦИК» (речь о правых эсерах и меньшевиках); «нам приходилось выдерживать крайне жестокие нападки с различных сторон». «Нам пришлось выдерживать с ними упорную борьбу по целому ряду вопросов»; «мы считали необходимым сказать перед всей Россией, что меньшевикам и правым с.-р. в Советах места быть не может. Левые с.-р. не поддержали нас в нашем вотуме. Они голосовали против исключения».
Затем Свердлов рассказал о расправе с отделами ВЦИК, которые все были превращены в комиссариаты и включены в состав СНК. Тем самым роль ВЦИК была фактически сведена к совещательному органу при СНК – переворот состоялся при полном равнодушии к полномочиям, которые были заложены при выборах ВИЦК. Далее – снова к разногласиям с левыми эсерами – теперь по продовольственному вопросу. Хотя, на самом деле, – по вопросу о развязывании гражданской войны в деревне, которая стимулировалась большевиками Декретом о создании комитетов бедноты. «Мы знали, что зажиточные слои населения отвернутся от нас и не только отойдут от нас, но и будут против нас».
Снова наступая на больное место, Свердлов говорит о создании Революционного Трибунала и об уходе из него левых эсеров. Зал взрывается. Одни аплодируют, другие кричат: «Долой смертную казнь!» Хотя вопрос о смертной казни не был включен в повестку, Свердлов принялся его подробно освещать, совершенно игнорируя задачи своего доклада и уводя от сути дела – от отчета о том, что смог сделать ВЦИК за отчетный период. Довод Свердлова, оправдывающий нарушение отмены смертной казни II Съездом Советов, был издевательский: якобы, между Съездами ВИЦК был определен как верховная власть, и поэтому мог такие нарушения допускать, игнорируя мнения тех, кто его избрал. Всё это для Свердлова и большевиков – пустяки. Потому что «то главное, что имело значение в период мирного жития и спокойной эпохи, но не в период революции». При этом Свердлов напомнил оппонентам об их роли: «Смертные приговоры мы выносили десятками по всем городам: и в Петрограде, и в Москве, и в провинции. И в вынесении этих приговоров принимали совершенно равное, совершенно одинаковое участие как мы, кровожадные коммунисты, так и левые с.-р.».
Далее Свердлов говорит нечто совсем ужасное: «мы можем указать отнюдь не на ослабление террора по отношению ко всем врагам Советской власти, отнюдь не на ослабление, но, наоборот, к самому резкому усилению массового террора против врагов Советской власти. И мы были глубоко уверены в том, что самые широкие круги трудовой России, самые широкие круги рабочих и крестьян отнесутся с полным одобрением к таким мероприятиям, как отрубание головы, как расстрел контрреволюционных генералов и других контрреволюционеров».
Спиридонова подхватила вопрос о смертной казни, угрожающе напомнив: «Мы, товарищи, являемся представителями той партии, в программе и тактике которой имеется террор, система политического, а в настоящее время и экономического убийства по отношению к самым крупным представителям насилия и произвола над народом». Она не стесняется того, что эсеры вместе с большевиками выносят смертные приговоры. Она против заимствования большевиками средств из арсенала буржуазии – то есть судебной практики вынесения смертных приговоров. Одно дело – террор в ситуации борьбы, другое – рутина судебных заседаний, которые превращают смертные приговоры в обыденность. В этом Спиридонову можно было понять. И сами большевики публично объявляли смертную казнь исключительной мерой, но на практике применяли её самым широким образом – именно так, как рекомендовала Спиридонова: внесудебными расправами.
Следом выступил Ленин – с безобразно длинной и бессвязной речью, в которой трудно отыскать какую-то оформленную мысль. Это каша из голословных утверждений, пафосных заявлений и унижений оппонентов. Между перемежающимися без всякого порядка темами он объявил эсерам: это уже не ссора, а окончательный разрыв. Всё, что говорил Ленин, не имело никакого отношения к обсуждению доклада ВЦИК или делам СНК. Это был просто риторический поток, исторгаемый без всякой подготовки, без порядка и внятных выводов. «До октября; когда основалась новая Советская власть, до 26 октября 1917 года, когда… (шум, крики, аплодисменты) наша партия, большевики представители Ц.И.К. предложили партии лев. с.-р. войти в правительство, – она отказалась. Я поясню вам, что те люди, которые колебались, которые сами не знают, чего хотят, отказываются идти с нами, слушают других, которые рассказывают сказки». Что касается смертной казни, то здесь Ленин безапелляционен: «Не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы расстрелов». Раз переживаемый период тяжелый – значит, расстреливать.
Ещё не чувствуя, что расстрелы вождь большевиков предусматривает и для левых эсеров, в полемическом задоре Камков (329) сравнил постоянные ссылки на меньшевиков и правых эсеров с пуганием детей жучком на палочке. Бедняцкий съезд в Костроме и Уфе он назвал съездом деревенских лодырей, а насаждение комбедов – контрреволюцией. И обвинил большевиков в том, что продотряды направляются в деревню грабить крестьян – «из всех средств борьбы с голодом это самое нецелесообразное».
Зиновьев: «Позвольте нам, голодной Петроградской коммуне, знать больше, чем Камкову. Мы десятки вагонов получили прямо из рук наших рабочих, реквизиционных отрядов (Аплодисменты)». Грабеж оправдан, коль скоро в продотряды большевики направляют самых сознательных рабочих. Продолжая ленинское хамство, Зиновьев назвал левых эсеров «проходной конторой»: «Они идут то справа, то слева, это определенный классовый мещанский элемент. То было несколько месяцев тому назад, когда левые с.-р. переходили на сторону революции. Сейчас ваша проходная контора растет в другом направлении. Они очень эластичны, как и вся буржуазия, они чем угодно назовут себя, только бы сделать дело, которое им нужно. И я говорю нашему классу, громадному большинству беднейшего класса: нам не опасна эта промежуточная партия, эта проходная контора».