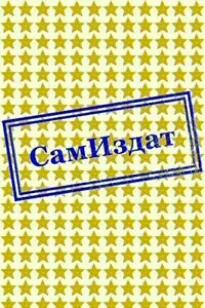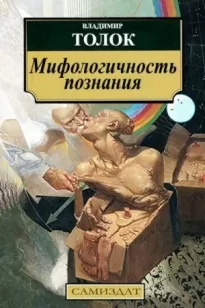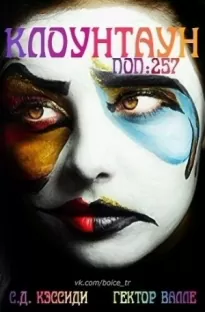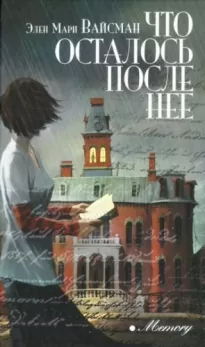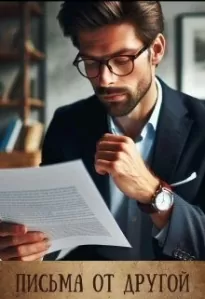Статьи и письма 1934–1943

- Автор: Симона Вейль
- Жанр: Публицистика
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Статьи и письма 1934–1943"
Рабство, которому подпали подданные римлян, быстро распространилось и на самих римлян. Это произошло очень легко. После смерти Гракхов мы, кроме, может быть, Катона, больше не видим в Риме ни сильных характеров, ни достоинства. Римское достоинство сохранялось только по отношению к чужеземцам, потому что в них можно было видеть побежденных – во всяком случае, потенциально; при этом даже консулы и преторы, внесенные в проскрипционные списки Октавианом и Антонием, как передает Аппиан, без стеснения обнимали колени собственных рабов, называя их своими спасителями и господами85. Спустя шестьдесят лет после разрушения Карфагена Рим был подвергнут со стороны Мария и Суллы, их солдат и рабов, всем бесчинствам, которые творят в завоеванном городе, и при этом молчал и не сопротивлялся. Отныне Цицерон мог в свое удовольствие изображать из себя гражданина, а Брут – считать себя освободителем земного шара за то, что путем преступления освободил несколько сотен тысяч таких же алчных и жестоких людей, каков был сам. Отныне уже не было спасения от рабства, и называвшиеся гражданами были готовы встать на колени еще прежде того, как у них появился хозяин. Навязчивая идея господства, жестокость, низость душ в конечном итоге породили то, что мы сегодня называем тоталитарным государством.
Мы почти не задумываемся о том, что в каких-то явлениях нашего времени узнаются картины уже происходившего в Римской империи. Массовые депортации крестьян в Южном Тироле и в Восточной Европе справедливо ужасают нас86; но они не напоминают нам о первой эклоге Вергилия, над которой мы дремали в школе, и о тех, которые говорят: «Мы же родные края покидаем и милые пашни, // Мы из отчизны бежим… уходим – одни к истомленным жаждою афрам, // К скифам другие…»87 Тем не менее это была совершенно аналогичная мера: человеческие массы были столь же грубо перемешаны, нити, связывающие человека с его собственным существованием, так же безжалостно разорваны. Но поскольку сам Вергилий был по особой милости избавлен от этой меры, она издалека не вызывает у нас ужаса. Сходство между титулом «императора» и титулом «вождя» в современных тоталитарных государствах не открывает нам глаза на идентичность функций. Мы прежде всего не верим, что одинакова степень тирании. Однако никогда прежде души не сгибались так всецело перед могуществом одного человека и не чувствовали более сильно холодного гнета силы. Несчастье Овидия – несчастье, причина которого не была раскрыта ни в его время, ни позже, – дает ощутить состояние человека той эпохи; стоит только за один раз перечесть, в ее ужасном однообразии, долгую вереницу слов униженной мольбы и раболепного преклонения, которые он не уставал твердить год за годом, вплоть до смерти. Так, он умолял не о помиловании, а о хоть немного менее суровом месте высылки, но не получил ничего. Столько произвола и жестокости, с одной стороны, и столько униженности, с другой, было бы невозможно без общего расположения умов, которое делает их такими. И после этого будут еще говорить, будто Август обращал свою суровость на людей, слишком уверенных в своем богатстве, но защищал слабых? На старости лет он запятнал себя законом, согласно которому все рабы, жившие в доме господина, убитого кем-то неизвестным, подвергались пыткам и смерти88. В самом деле, по судьбе человека, защищенного блестящей репутацией и влиятельными друзьями, каким был Овидий, можно заключить о несчастьях, грозивших тем, кто не обладал ни одним из этих преимуществ. Нас ошеломляет единодушный концерт восхвалений в прозе и стихах, гремящий вокруг Августа, – как будто абсолютный и безжалостный владыка не способен добиться единодушия когда только захочет! Если среди подданных такого правителя имеются одаренные люди, то, чтобы они приняли участие в таком концерте, чаще всего бывает достаточно их на него пригласить. Государю, чтобы вечно казаться достойным восхищения в глазах потомков, нужно только уметь выбирать достаточно одаренных писателей и ставить их себе на службу; однако разборчивость в оценке талантов не имеет никакого отношения к способностям и добродетелям, украшающим правителя.
С другой стороны, в наше время стало общим местом обвинять Тацита в систематической враждебности к преемникам Августа. Надо признать вполне вероятным, что он сознательно рисует их в мрачных красках и значительно преувеличивает их личную ответственность за несчастья того времени; его собственных сочинений достаточно, чтобы убедиться в этом. Не можем мы ни сочувствовать его республиканской ностальгии, зная, какова была эта республика, ни сострадать этому Сенату, бывшему столь высокомерным и жестоким господином для стран и народов, который впал в беспредельную низость, как только у него самого появились господа. Но если можно оспорить свидетельства Тацита о личности императоров, то нет веских оснований делать то же самое в отношении состояния империи. Ибо эти сенаторы, которым их господа могли наносить любые бесчестия без исключения, и они всегда восхваляли и благодарили их, все еще сохраняли в немалой степени привилегию почестей и высоких должностей; можно ли на этом основании предполагать, что на более низких уровнях было больше справедливости и достоинства? Не следует ли думать, что произвол, наглость и жестокость, раболепие и пассивное повиновение были распространены по всей империи сверху донизу? Это правда, что императоры немало заботились о римских низах; но забота состояла в том, чтобы кормить их подачками и непрерывно поить кровью гладиаторов. Они очень заботились и об армии, которая в определенной степени играла ту же роль, что государственная партия в современных тоталитарных государствах; у Ювенала можно видеть, как далеко заходила прямо на городских улицах всегдашняя безнаказанная разнузданность солдат. Хотя провинции, возможно, боялись магистратов меньше, чем прежде, зато больше боялись армии. Когда требовалось поощрить солдат, «римский мир» не препятствовал тому, чтобы внезапно, без какого-либо предварительного инцидента, пересечь границу и истребить все население какой-нибудь местности, не щадя ни пола, ни возраста, ни священных мест; Германик однажды поступил таким образом в Германии при Тиберии89.
Но разорение покоренных стран, широко распространенная, повседневная, поощряемая государством жестокость, беспредельные угодливость и покорность перед властью, способной манипулировать массами и индивидами как ничего не стоящими вещами, – все эти черты еще не являются тем, что наиболее разительно напоминает современные тоталитарные диктатуры. Совершенно различные социальные структуры могут допускать абсолютную власть одного человека.
Например, в Испании эпохи Возрождения, а также, по-видимому, в Древней Персии именно личность законного, то есть определяемого законами, правителя была предметом неограниченного повиновения и преданности; как бы далеко ни заходило в таких случаях повиновение, оно может иметь в себе и истинное величие, поскольку может быть вызвано верностью законам и принесенной присягой, а не низостью души.
Но в Риме все зависело не от императора как человека, а от империи; и силу империи составлял механизм весьма централизованного, отменно организованного управления, многочисленной постоянной армии и, в общем, дисциплинированной системы контроля, которая распространялась повсюду. Другими словами, источником власти было государство, а не государь. Те, кто вставали во главе государства, становились объектом одинакового повиновения независимо от того, каким способом это им удавалось. Гражданская борьба, если она происходила, имела целью перемену лица, возглавляющего государство, но не отношений между государством и его подданными; абсолютный авторитет государства не мог быть поставлен под сомнение, поскольку основывался не на соглашении, не на понятии о верности, но на власти, которая обладает силой, способной сковывать ледяным холодом души людей.
Это централизованное государство производило то воздействие, которое оно производит и в наши дни, даже в своей демократической форме, высасывая жизнь страны в столицу и оставляя на остальной территории только мертвое, однообразное и бесплодное существование. Несмотря на наглость и безудержную роскошь богачей, рабское попрошайничество, на которое было вынуждено большинство тех, кто не был богат, Рим обладал непреодолимой притягательной силой. Вся местная и региональная жизнь погибла на этой громадной территории, лучшим доказательством чего является исчезновение языков большинства завоеванных стран. Но, как сегодня характерно только для тоталитарных диктатур Германии и России, государство было также единственным предметом духовных устремлений, единственным предметом поклонения. Теоретически император становился богом только после смерти, но лесть делала его богом уже на земле, и он действительно был единственным богом, который имел значение. Впрочем, были ли предметом религиозных чувств мертвые императоры или живой император, поклонялись всегда государству. Этот культ, как и сегодня, защищался тщательным и безжалостным контролем и систематическим поощрением доносов; Lex majestatis позволял наказывать не только за оскорбления официальной религии, но, при необходимости, даже за недостаточное рвение90. Статуи, храмы, церемонии распространяли эту религию по всей территории страны, и все известные люди в обязательном порядке были инструментами ее пропаганды. Известная терпимость римлян того времени в том, что касалось богов, распространялась только на тех из них, которые могли служить сателлитами империи; терпимость, например, не помешала безжалостному уничтожению жречества религии друидов91. На самом деле только подпольные секты, как показал Каркопино на материале пифагорейцев, могли поклоняться чему-либо, кроме государства; и церковь сегодня лишь вновь встречает своего древнего врага92. Можно рассматривать усилия этих сект, начиная с христиан, как выражение борьбы греческого духа против духа римского.
Конечно, нам трудно заставить себя признать некую идентичность между нашим врагом и той нацией, литература и история которой почти исключительно снабжают нас материалом для того, что мы называем классическим образованием. Антиюридический, антифилософский, антирелигиозный дух, присущий гитлеровской системе, заставляет нас рассматривать нашего врага как угрозу цивилизации; напротив, разве римляне не слывут религиозными, любознательными в философии, творцами юридического сознания? Но противоположность здесь лишь наружная. Римляне (во всяком случае, после их великих побед) отнюдь не имели другой религии, кроме религии своей нации как обладательницы империи93. Их боги были полезны только для поддержания и расширения их величия; никогда ни одна религия не была более чуждой всякого понятия о благе и спасении души; любовь к природе тоже не имела в ней никакой части. В течение какого-то времени мода и снобизм побуждали их интересоваться греческой философией; но нет никаких признаков того, что они, за исключением Лукреция, когда-либо понимали ее, и лучше ничего не знать о греческой мысли, чем быть осведомленным в ней только из латинских текстов. При Империи государственный авторитет препятствовал такому любопытству. В этот период только работы фригийского раба Эпиктета и Марка Аврелия являются ценными в области философии, и оба названных автора принадлежат греческой литературе. Марк Аврелий, несомненно, писал втайне. Некоторые императоры систематически преследовали философию94. Что касается права, то прежде всего неправда, что римляне создали юридический дух; в границах исторически известных эпох юридический дух зародился в Месопотамии и достиг наивысшей степени развития сорок веков назад. Тем не менее, бесспорно, что римляне были юристами. Но обвинять гитлеровцев в том, что они разрушают самое существо права, подчиняя его суверенитету и интересам государства, выводя право из нации, можно лишь упуская из виду, что в этом пункте они являются верными наследниками римлян. Было бы чрезвычайно трудно утверждать, опираясь на тексты, что римляне рассматривали право как то, что исходит от индивидов и ставит предел суверенитету государства в отношениях с ними. Если суверенитет города был ограничен в домах граждан, этот предел накладывался на них суверенитетом семейной группы; по мере же того, как город превращался в государство, а семья распадалась, этот предел терял свою силу. В самом деле, император имел власть принудить женатого мужчину к разводу или к аннулированию завещания; по этой самой причине многие богатые римляне завещали значительную часть своего богатства императору, чтобы их семьи могли сохранить остальное; разве не достаточно свидетельствует этот факт о подчинении частного права суверенной власти? Что же касается международных соглашений, то римляне никогда не считали себя обязанными соблюдать договор, когда им было выгодно его нарушить или расторгнуть. Когда им приписывают юридический дух, допускают двусмысленность; составление обширных сводов законов не имеет никакого отношения к святости договоров.