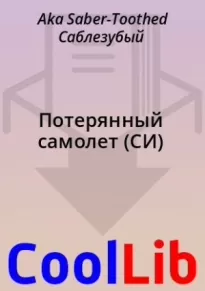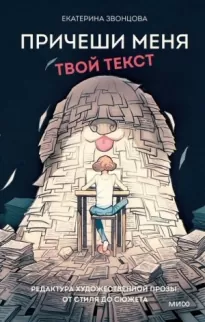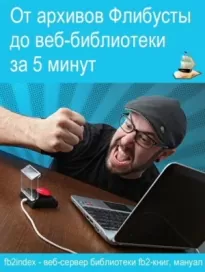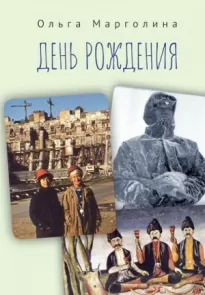Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг
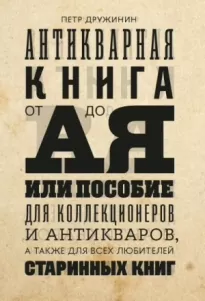
- Автор: Петр Дружинин
- Жанр: Неотсортированное
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг"
Цензура
Говоря о цензуре в связи с историей книги, мы считаем нужным затронуть лишь несколько локальных моментов этой бескрайней темы. Тем более что для даже краткой характеристики полномочий и структуры этого института в историческом развитии у нас явно нет необходимости – вся краткая информация доступна и без наших трудов. Но мы бы хотели немного рассказать о том, как деятельность цензуры влияет на формирование отдельного сегмента книжного собирательства – запрещенных, изъятых, уничтоженных изданий.
Как и в других странах, в России сила печатного слова своевременно была оценена власть предержащими, почему противодействие вольности печати есть процесс постоянный до сего дня. Даже в темные времена, когда в России печаталось не столь много книг, чтобы вести с ними решительную борьбу, велась борьба с ввозимыми книгами, поначалу литургическими. Начиная с XVIII столетия институт цензуры становится частью системы государства, постепенно отделяется духовная цензура от светской; с введением в 1804 году первого цензурного устава надолго устанавливается обязательная предварительная цензура. То есть ничего не могло быть напечатано без обязательного просмотра цензором. Эта механика известна: сперва в Цензурный комитет предоставляется рукопись; затем, если она разрешена к печати (целиком или с изъятием определенных мест, которые вычеркнуты цензором), издание идет в набор; готовый тираж может быть отдан в продажу только после того, как отпечатанный экземпляр будет возвращен цензору, тот сравнит его с разрешенной рукописью, не найдет отличий и даст книге жизнь. Конечно, и после этого могут с книгой случиться неприятности – кто-то, бегущий впереди паровоза, заметит какие-то обидные выпады в адрес «вышних классов» или еще чем-то оскорбится и подаст челобитную куда надо, после чего уже лотерея: если сочтут навет справедливостью, то задержат издание, если нет – оставят жалобу без последствий. Газеты и журналы цензурировались более оперативно, но ни одна строка не могла быть напечатана без ведома цензора.
Довольно любопытно, как некоторые особенно изощренные издатели обходили такой порядок. Мы, по крайней мере, знаем блестящий пример, о котором поведаем.
В истории русского масонства более века оставалась нерешенной важная загадка. В 1810‐х годах М. А. Дмитриевым-Мамоновым и М. Ф. Орловым был основан «Орден русских рыцарей», который по убеждениям ХX века представлял собой «тайную политическую организацию, преследующую цель государственного переворота». Как писал М. К. Азадовский,
из литературных памятников, созданных или создававшихся «Орденом русских рыцарей», наибольший интерес представляет брошюра на французском языке (1817), автором которой был Дмитриев-Мамонов. Отпечатана она была всего в 25 экземплярах; точное заглавие ее не установлено. Сам Дмитриев-Мамонов в одном из писем именовал ее «Краткие наставления», а в доносе 1822 г. она была названа «Наставление русскому рыцарю». О существовании этой брошюры было широко известно; о ней упоминал в своих показаниях Пестель: «У них <членов Общества русских рыцарей> была печатная книжечка об обществе» и тут же добавлял, что сам он «ее не читал». Несомненно, Пестель хотел избегнуть расспросов о ее содержании. Брошюра до нас не дошла…
По рукописям Дмитриева-Мамонова было установлено, что именно он «велел напечатать „Краткие наставления“ с прибавлениями», «на веленевой бумаге», а вскоре, в начале 1817 года, писал:
Я очень доволен, что она напечатана. Все же это маленькая победа свободы. Правда… дьявольски не нравились гг. цензорам. Но чего не добьется надоедливость и настойчивость. Я решился солгать. Я сказал, что рукопись – перевод, сделанный 30 лет тому назад, словом, Всеволожский вмешивается и приказывает его напечатать, чтобы сделать мне одолжение. И вот, таким образом общество, существующее только в идее, возвещается уже путем печати. Это materia prima нашего великого труда, – благословите ее и обрабатывайте ее по образцу ученых, распространяйте мало по малу под рукой экземпляры.
Ни одного экземпляра этого издания, как считалось, не уцелело. Не было сведений о нем и в библиографии. Никто его не видел в глаза.
В 1949 году будущий классик историко-филологической науки Ю. М. Лотман нашел среди бумаг масона М. И. Невзорова в Публичной библиотеке список некоего сочинения, озаглавленного «Краткое наставление Р. Р.», идентифицировал его как копию рукописи М. А. Дмитриева-Мамонова «Краткие наставления русским рыцарям» и посчитал, что это тот оригинал, с которого был выполнен французский перевод для издания. Разразилась полемика: ведущие историки настаивали, что «ни в коем случае не следует считать данный текст идентичным сочинению Дмитриева-Мамонова, о содержании и характере которого мы знаем из его писем», однако в 1959 году Лотман еще более утвердился в своей версии и особо подчеркнул, что «брошюра была отпечатана не как подпольное издание, а проведена через цензуру, в чем, собственно говоря, не было и большой необходимости, ибо тираж 25 экземпляров при условии заведомой неприемлемости текста для цензуры можно было изготовить, не прибегая к печатному станку». Ю. Г. Оксман писал, не в силах разрешить загадку текста: «Брошюра мамоновская до нас не дошла. Ее нет ни в одном из собраний, в которых можно было бы ее отыскать: ни в Остафьевском архиве, ни в архиве Тургеневых; не попала она и в руки следственных органов [по делу 14 декабря 1825 года], – очевидно, ее тщательно уничтожали…»
«Краткие наставления» М. А. Дмитриева-Мамонова (1816) – единственный известный экземпляр знаменитого манифеста раннего декабризма
И вот, в начале 2000‐х годов, на одном из московских аукционов, где распродавалось библиофильское собрание, восходившее к коллекции Марфы Пешковой, нами с А. Л. С. была обнаружена книга «Краткие наставления. Сочиненые Рыцарем Рускаго креста Лр. Д. М.-мъ», 32 страницы, издано без титульного листа, ни сведений о типографии, ни цензурного разрешения, ни даже года издания на книге нет, но по печатным листам это безупречный экземпляр, притом в издательской обертке. Хотя никому эта книга не была интересна (современные коллекционеры довольно дремучи, что уж скажешь), но даже по скудному и малограмотному аукционному описанию возникло подозрение, что это мог быть тот самый текст, список которого напечатал М. Ю. Лотман (во что, признаться, верилось с трудом). В действительности так оно и оказалось: дидотовский шрифт брошюры как раз характерен для типографии Н. С. Всеволожского, бумага также веленевая. При сравнении с публикацией 1949 года, эти тексты, за исключением незначительных разночтений, идентичны. Нет никаких сомнений, что именно это издание – тот самый фантом раннего декабризма. Притом издана книга была не по-французски, как считалось по причине французских писем автора, а по-русски.
И вот тут возникла новая задача: понять, как и когда точно эта книга могла выйти в свет, раз уж она так опасна. Ведь мы знаем, что цензор якобы ее пропустил. Архивные поиски помогли нам лишь отчасти: рукопись «Кратких наставлений» была представлена в Цензурный комитет при Московском университете в середине декабря 1816 года; в заседании Цензурного комитета 15 декабря было определено передать из вновь поступивших рукописей «Краткие наставления» – профессору В. М. Котельницкому. Странно, что профессор медицины, далекий от масонства, рассмотрел перевод и одобрил его. Почему вообще рукопись досталась на рассмотрение именно ему? Здесь нужно вспомнить, что цензор был одновременно и непосредственным подчиненным типографщика Н. С. Всеволожского по службе в Медико-хирургической академии, занимая там пост ученого секретаря. Поэтому он и одобрил рукопись безропотно. Но в архивных материалах это было единственным упоминанием: о выходе в свет никаких сведений нет, о выдаче билета – тоже. И в последнем кроется ответ на вопрос, почему же не было послано «обязательного экземпляра» в Публичную библиотеку и Академию наук.
Дело в том, что кто-то, может быть и знаток цензурных правил Всеволожский, поступил очень, с одной стороны, осмотрительно, с другой – остроумно. Предварительное одобрение цензуры Всеволожский получил лишь для того, чтобы обезопаситься от возможного обвинения в публикации предосудительных сочинений в своей типографии. То есть он получил разрешение на набор, а отпечатанного издания «Кратких наставлений» в цензуру даже не собирался представлять, и, конечно же, не стоит удивляться, что он не испрашивал билет на выход и не предоставлял «обязательные экземпляры». Ведь формально, в понимании цензуры, он не стал печатать собственно «тираж». Случаи, когда рукопись была одобрена, но книга по каким-то причинам не выходила, были нередки; это хорошо знал и Всеволожский. Отпечатав 25 экземпляров, но без титульного листа, он отдал их Дмитриеву-Мамонову для раздачи самым близким единомышленникам. Так они сообща обманули цензуру. Единственный экземпляр ныне сохраняется в нашем «Музее книги».
При Николае I такие «штучки» уже были невозможны, особенно в эпоху мрачного семилетия. Однако с восшествием на престол и реформированием государства неминуемо должны были последовать и изменения в цензурных установлениях. Так оно и произошло: в 1865 году были введены «Временные правила о цензуре и печати», которые в действительности не слишком ослабили цензурный гнет, а лишь усилили самоцензуру. Все издания, как и прежде, должны были иметь разрешение от цензуры. Это касается как книг, так и журналов, брошюр, одиночных листов. На каждом экземпляре должны были быть указаны сведения о типографии и дата цензурного разрешения. При этом от предварительной цензуры освобождались сочинения объемом более 10 печатных листов (для переводных даже более 20), именно более, то есть объемные издания, набор которых явно был дорогостоящим, а будущее запрещение вводило бы издателей в немалый убыток. Закон от 19 апреля 1874 году для таких изданий ввел новую подлость: после того как книгу, не требующую предварительной цензуры, отпечатали, надлежало сперва полностью разобрать (рассыпать) набор и уже затем подавать экземпляр в Цензурный комитет для получения билета на выход. Таким образом, в случае сложностей было еще труднее внести изменения и переверстать полосы, чтобы все-таки довести книгу до прилавка и сократить убытки.
Тексты, которые проходили предварительную цензуру в рукописи, получали право на опубликование («Дозволено цензурой» и дата), а по готовности издание, как и прежде, подавалось в Цензурный комитет, где его сверяли с разрешенной рукописью и выдавали «билет на выход». Освобождались от этого «только объявления присутственных мест и произведения, имеющие предметом общежитейские и домашние потребности», то есть визитные карточки, пригласительные билеты и тому подобное. Литографированные лекции профессоров не подлежали цензуре и отправлялись в библиотеки напрямую (что со временем, когда таким образом студенты начали печатать прокламации и запрещенные сочинения под видом лекций, было также ужесточено). Никакое частное объявление «не может быть напечатано без дозволения местного полицейского начальства», в том числе и отдельно, и на них всегда стояли фамилия чиновника и название типографии. Для сочинений «по математике и другим точным наукам… дозволяется, для облегчения составления и печатания оных, поставлять в последней корректуре, тиснутой на писчей бумаге». Для желающих представить корректуру вместо рукописи требовалось получить позволительный билет. Напечатанные без предварительной цензуры издания подавались в цензуру и выпускались в публику по прошествии трех дней (в этот срок цензура могла остановить выход издания). Даже отдельные оттиски нельзя было напечатать без отдельной цензурной процедуры: «Всякое перепечатание, или отдельное отпечатание какой бы то ни было статьи, из одного или нескольких нумеров периодического издания, когда бы оно ни производилось, может быть сделано не иначе, как по получении на то цензорского одобрения, и выпуск в свет из типографии какого бы то ни было рода перепечаток или отдельных оттисков может быть только сделан по получении на то особого дозволенного билета…» Однако постепенно практика ареста уже вышедших изданий (то есть получивших билет и вышедших в продажу) становилась реже – поскольку формально это издание было выпущено, то надлежало не арестовать, а выкупить его за средства казны, что было очень непросто и сулило цензорам отставку.