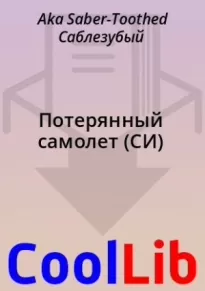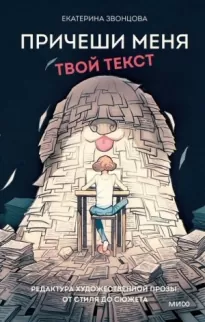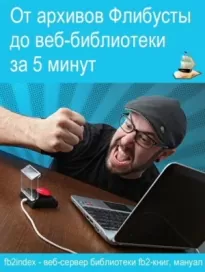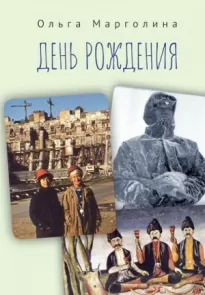Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг
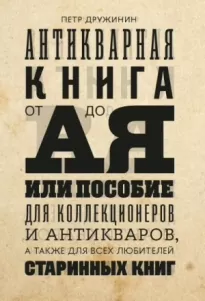
- Автор: Петр Дружинин
- Жанр: Неотсортированное
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг"
Михаил Елиазарович
Поскольку жизнь позволила учиться не только у К. К., но и у М. Е. Кудрявцева, и, конечно же, именно М. Е. принимал эпохальные для моей биографии решения о приеме меня на работу и вообще сделал мне не меньше добра, чем К. К., я далее расскажу немного о нем.
М. Е. Кудрявцев (1940–2004), тоже инженер, тоже работавший в НИИ и тоже холодный книжник. Он также не страшился антисоветчины (рассказывал, как чудом избавился от чемодана тамиздата перед обыском); но страсть у него была иная – поэзия.
Он очень любил стихи, знал поэзию хорошо. Повторимся, что значение слов «знать поэзию» было иным в те годы: не названия книг и имена поэтов, что сейчас считается в антикварном мире «знанием поэзии», а именно сами стихи. Много декламировал нам наизусть, чаще, когда расценивал книги, он с интересом открывал какой-то сборник, проглядывал и вдруг начинал нам читать понравившийся стих. Если рядом с ним оказывалась молодая дама, то он обычно читал особенно вдохновенно.
Ну и в довершение, он сочинял сам. Свои стихи он читал довольно редко, если только это не каламбуры, которыми сыпал постоянно; но свои сборники дарил друзьям, и они у меня с очень теплыми надписями. Чем он делился постоянно, так это палиндромами, которые составляли его подлинную страсть: он их выхватывал отовсюду, ловил в чужой речи, и чем длиннее был палиндром, тем М. Е. был счастливее.
Хотя многие звали его «Илизарычем», он не уставал повторять «я ЕлиАзарович». Я, пусть уже и совсем призрачно, помню его отца, которого звали Елиазар Бенционович; то есть М. Е. был кровь от крови и плоть от плоти настоящим антикваром. В душевном же смысле он был невиданного благородства и бескрайней доброты человек, помогавший всем по мере сил. А несчастный Б. М. не знал, что и делать, чтобы как-то спасти финансы «Акции» от разорения.
Друзья М. Е. были всегда на виду – Нинка, Юра, два Лёвы. То бишь Нина Григорьевна Шилова (жена, а затем вдова Льва Алексеевича Шилова), преподаватель 1‐го медицинского, которая была главным консультантом всех и вся по части здоровья, а в свободное от этой работы время – неординарным почитателем русской литературы; Юрий Анатольевич Самоненко, который преподавал на Моховой и заходил довольно часто; ну и по собирательской части – всегда немного чопорный знаток Цветаевой Лев Абрамович Мнухин и, совсем наоборот, свойский Лев Михайлович Турчинский. Последний был известен, во-первых, как абсолютный бессребреник, благорасположением которого прохвосты пользовались до конца его дней, во-вторых, как одержимый библиограф; М. Е. помогал ему как мог по всем этим пунктам: откладывал для описания то, чего не находил в справочнике А. К. Тарасенкова, цены на продаваемые книги снижал для Лёвы вдвое, а если что покупал у него самого – платил много более щедро, чем кому бы то ни было.
Небольшое отступление. Именно тогда, в 1991 году, я познакомился здесь с Александрой Алексеевной Гусевой, которая очень хорошо относилась к М. Е. и приходила в лавку смотреть старопечатные книги. Она отбирала нужное для Ленинской библиотеки, а на все остальное, что библиотеке не требовалось, писала карточки с указанием названия и даты (и делала это долгие годы абсолютно бескорыстно). С той поры мы с А. А. если не подружились, то отношения наши были очень теплыми, все те без малого тридцать лет вплоть до ее безвременной кончины. Никто более из коллег по книговедению не был мне так по-человечески близок. Очень хочется вспомнить одну встречу, которая произошла в годы моей жизни в Петербурге, году в 2008‐м или 2009-м. Зимой, выйдя из Публичной библиотеки, почти на углу Невского, я встретил А. А. Мы довольно давно не виделись, но времени было мало: я – спешил, просидев весь день в рукописном отделе, она – приехала на пару дней из Москвы и, побывав в БАН, тащила в тряпичной сумке распечатку своего «Свода русских книг кирилловской печати XVIII века». Было промозгло и холодно. Но мы проговорили на этом углу почти полтора часа, взахлеб обсуждая то, чем кто из нас в данный момент занимается. Я потом слег с ангиной, А. А. была одета теплее. «Свод» свой она мне подарила с очень трогательной надписью.
Вернемся же в лавку. В ценообразовании М. Е. был наделен двумя великими дарами, которыми природа может наградить антиквара, – интуицией и полетом фантазии. Если первое дает человеку природа при рождении, то второму мы все у него учились по мере сил. Кроме К. К., который как-то совестился брать за книгу дороже, чем она должна была, по его разумению, стоить. При этом М. Е. не то чтобы жаждал заработать, отнюдь нет. Это было не про него, как ныне говорят. Просто ему доставляло удовольствие играть с обстоятельствами и проверять свою интуицию на практике. Безусловно, он не был жадным и никогда не обделял сотрудников, даже когда мог бы это сделать на правах хозяина заведения. Не знаю, что было в нем более развито, желание помочь человеку или сохранить с ним хорошие отношения; но люди его очень любили, и он отвечал им взаимностью.
Он относился ко мне по-доброму, как и все в «Акции», по крайней мере поначалу, особенно с учетом того, что я для него был совсем уж мальчик. Но после одной истории пришлось ему воспринимать меня серьезно; зато потом мне уже разрешали и сидеть на приемке, заменяя отсутствующего товароведа, и вообще я стал своим.
Ab ovo. Это было летом или осенью 1991 года. Купил я на Арбате у перехватчиков кусок книги, не только без переплета, но и без начала и конца, драную и затоптанную: какие-то штаты и тарифы начала XIX века, на голубой бумаге с лохматыми краями. Принес покупку домой, выкинул начало и конец, оставив чистые листы для реставрации, и осталось у меня в руках только одно издание, страниц в 30–40, без титульного листа (я до сих пор люблю такие манипуляции, когда из трухи рождается нечто ценное). И назывался этот кусок «Постановление о Лицее», то был циркулярный указ Александра I 1810 года об учреждении Царскосельского лицея. Ничего редкого, как мне тогда думалось, в нем не было, но зато имелось отношение к литературе, и это был шанс заработать больше тех 5 или 10 рублей, которые я скрепя сердце заплатил перехватчикам.
Принес в лавку, показал К. К., тот посмотрел поверх очков и говорит: титула нет, а может, и не было, давай так: или 100 рублей на комиссию (то есть 80 на руки после продажи), или же сразу 50. Выбрав 50 рублей, я был доволен как слон; тем дело и кончилось.
Но через пару месяцев последовало продолжение: вошел я на приемку окинуть взором то, что куплено за день, пока этого не сделали другие. В это время М. Е. отлучился поболтать с К. К и тем самым открыл доступ к свежим стопкам. Посмотрел я книги – ничего особенного, в основном собрания сочинений или же альбомы по искусству, которые тогда стоили наравне с хорошими антикварными книгами, но меня не занимали. Тут же рядом лежали квитанции и счета, куда я незамедлительно сунулся тоже, поскольку нос у меня был всегда длинный, но в те годы – особенно. Смотрю: квитанция на то, квитанция на сё, счет музея-заповедника А. С. Пушкина, в котором одна только позиция: «Манифест о создании Царскосельского лицея (1810, уникальное издание, отсутствует в ГБЛ). – 2250 руб.».
До того момента я вовсе не понимал, как в области антикварной книги могут зарабатываться деньги. То есть продать вдвое дороже – считалось удачей, но многие книжники все равно еще оперировали процентами (как К. К.). Однако М. Е. был человеком с полетом – он умудрялся от души умножать, особенно если видел хоть призрачную возможность осуществления задуманного, и исходил из своей главной мудрости, которую уже, кажется, в третий раз мы цитируем: «Лучше жалеть о содеянном, чем об утраченных возможностях».
Осмыслив этот счет, я остолбенел; одно хорошо, что хоть не расплакался. Входит М. Е. с чашкой чая: ты что такой кислый? Вот, говорю, и показываю на счет. Сказать, что М. Е. был недоволен – ничего не сказать; по его грозным бровям и налетевшей суровости мне стало даже не по себе…
Что бы в таких случаях сделал любой антиквар? Как бы он стал выкручиваться? Вариантов много, они известны тем, кто работал в антикварных магазинах: первый, что де деньги ты получил и был рад и это дела прошлые; второй, что де у нас с музеем свои дела, такие-претакие, и на самом деле все не так, как написано; третий – вообще иди гуляй отсюда, мальчик, работай над описаниями книг и нос свой держи на привязи…
А что сделал М. Е.? Привычным движением он полез в нагрудный карман своей вельветовой рубашки (у него было их несколько, и он их любил носить не только из‐за вечного холода в лавке, но и по причине сохранности наличных денег); достал пачку сиреневых купюр, сдвинул стопки книг в сторону, высвобождая место на столе, и стал считать: раз, два, три… Досчитав до тридцати, он убрал оставшееся назад, а отсчитанное вручил мне со словами: «Это будет справедливо». Так я получил впервые в жизни разом сумму, которую не мог представить у себя в руках, – 750 рублей. Через полгода-год это уже были девальвированные деньги, но тогда – самые что ни на есть всамделишные.
И конечно, я никогда не забывал этого благородного поступка. Все последующие годы, и пока я работал в «Акции», и впоследствии, у нас были очень теплые отношения. Кроме того, с января 1992 года меня повысили, назначив «старшим библиографом антикварно-букинистического отдела», то есть приняли на постоянную работу. Это было также в общем-то исключением, потому что если не считать первого набора сотрудников, когда в 1990 году учредители все-таки вынуждены были взять кого-то со стороны, в дальнейшем кадры черпались исключительно из многочисленных друзей, бывших сослуживцев, дальних родственников, родственников будущих… Эта кадровая политика имела свои недостатки, но таков уже был выбор учредителей, полное их право.
Несмотря на то что М. Е. был сперва холодным книжником, потом букинистом, а с середины 1990‐х и полновесным антикваром, он в наших глазах был не торговцем, а оставался прежде всего коллекционером, и коллекционером страстным. Уже в годы его холодной книжности он оставлял себе поэтические сборники, покупал очень дорогие в те годы новые издания поэтов Серебряного века, цена которых на рынке 1980‐х годов превышала прижизненные. Но общеизвестной его страстью был Гумилев: как трудно покупались его книги, мы знали и видели. В те годы даже «Колчан» или «Фарфоровый павильон», которые ныне уж совсем ширпотреб, считались книгами; что уж говорить о всяких регенсбургских и прочих его изданиях. Особенно тяжело всегда давались две первые книги – «Путь конквистадоров» и парижские «Романтические цветы». Ну и конечно, автографы… Гумилевские автографы были всегда редки, всегда находилось на них много охотников, но в те годы М. Е. мог платить больше остальных, хотя и это не гарантировало ему изобилия. Но все, кто мог, способствовали приращению его коллекции, в том числе и Лёва Турчинский, который не раз приводил к нему продавцов.
Главным событием жизни М. Е. стал рукописный «Африканский дневник» Гумилева, та его часть, которая была прежде куплена выдающимся коллекционером и профессором-геологом В. В. Бронгулеевым (1915–1994) у В. Г. Данилевского и затем опубликована. Я не помню точно, сколько именно было заплачено тогда наследникам Бронгулеева, учитывая, что обычный автограф Гумилева стоил в те годы не менее тысячи долларов, то есть цена была на порядок больше (мне кажется, то ли восемь, то ли семь тысяч). Но М. Е., который сам бесконечно всем давал деньги в долг (без всяких процентов) и в платежеспособности которого не было сомнений, смог собрать требуемую сумму и купить себе настоящее счастье коллекционера. Помню, как эта покупка праздновалась у него на Красных воротах.