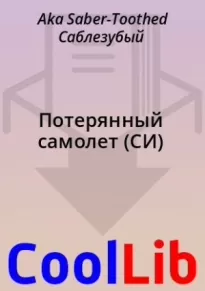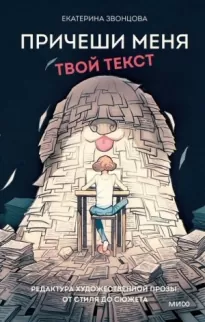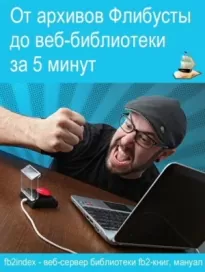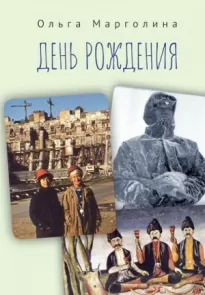Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг
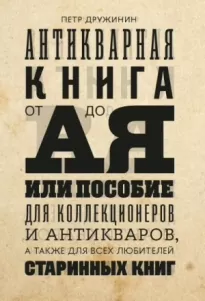
- Автор: Петр Дружинин
- Жанр: Неотсортированное
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Антикварная книга от А до Я, или пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг"
Византийские эмали
«Византийские эмали. Собрание А. В. Звенигородского. Петербург, 1892». Формат grand in-4o. Тираж 600 экземпляров: 200 на русском языке, 200 на французском и 200 на немецком.
Посвящая отдельный рассказ самой знаменитой и самой роскошной русской книге, безусловному шедевру всей многовековой истории отечественного книгопечатания, мы бы хотели не повторять то, что уже навязло в зубах одних и в ушах других, а поведать то, что не лежит на поверхности. Хотя интуитивно и представляется, что об этом замечательном и весьма знаменитом даже в непросвещенных кругах издании вряд ли можно сообщить что-нибудь новое.
Общеизвестны подробности грандиозного полиграфического предприятия, осуществленного неутомимым собирателем Александром Викторовичем Звенигородским (1837–1903). Одна из причин этой славы, наряду с монументальностью самого издания, – наличие сочинения-спутника В. В. Стасова «История книги „Византийские эмали“ А. В. Звенигородского» (СПб., 1898). Ценности труду Стасова добавляет то, что сам автор был деятельным участником осуществления творческого замысла А. В. Звенигородского, его близким другом и соратником с середины 1880-х, то есть знал подлинную историю издания из первых рук. Книговеды нескольких поколений черпали сведения о «Византийских эмалях» из книги Стасова, приправляя их невинными фантазиями, а порой и явными ошибками. В результате многочисленные публикации об этой книге последних десятилетий представляют собой некий «библиофильский винегрет» (малоаппетитный термин, отчего-то вошедший в обиход современного собирательства): трудноразличимую мешанину из книги В. В. Стасова, россказней книговедов-любителей с добавлением собственных малограмотных умозаключений.
Сказанное побуждает нас сосредоточиться на ряде вопросов, которые либо затрагивались в книговедческой литературе вскользь, либо ранее не поднимались вовсе. Мы разделим их на две части, первая – касается истории коллекции А. В. Звенигородского (особенно мы благодарны за работы Ю. А. Пятницкого, на которые в значительной степени опираемся в своем рассказе), вторая же – посвящена рассмотрению некоторых полиграфических особенностей издания, сделанных нами уже на основании собственных многолетних наблюдений.
В связи с собранием А. В. Звенигородского есть несколько тем, которые достойны отдельного рассказа: источники средств, тонкости формирования, вопросы подлинности экспонатов и, наконец, судьба коллекции. Прежде чем заняться исключительно коллекционированием памятников перегородчатой эмали, А. В. Звенигородский прошел значительный путь сперва как любитель, а затем и как деятельный собиратель произведений искусства. Увлекся коллекционированием он в 1860‐х годах, благо служба оставляла ему немало свободного времени. С 1867 года состоял управляющим придворной конторой цесаревича Александра Александровича, то есть заведовал Аничковым дворцом, но добровольно оставил должность и с 1871‐го был причислен к Государственной канцелярии внештатным помощником статс-секретаря Государственного совета. В обоих случаях он, по сути, только получал жалованье, а во втором просто не имел никаких обязанностей, в начале же 1880‐х состоял при конторе Зимнего дворца и «изредка занимался ведением дел в судебных местах, причем приобрел не совсем хорошую репутацию», из‐за чего в 1883‐м и вовсе вышел в отставку. Судя по найденному нами агентурному донесению 1878 года, он был сказочно богат от рождения: «Господин Звенигородский человек холостой, и кроме камердинера и жены последнего в квартире его никто не проживает», в Оренбургской губернии расположено «собственное имение господина Звенигородского, чрезвычайно богатое, кроме которого он имеет еще где-то свои прииски», «Господин Звенигородский по отзыву многих лиц самый прекрасный человек во всех отношениях и ведет жизнь прилично своему званию и богатым средствам».
К началу 1880‐х годов А. В. Звенигородский аккумулировал «значительное, по числу и качеству, собрание рейнских эмалей, майолик, древних терракот, grès de Flandre, предметов из слоновой кости, небольших мраморных и деревянных скульптур, золотых и серебряных предметов…» от эпохи Античности до Возрождения. Вопреки собирательским обычаям, он одновременно с собственной отставкой решает его продать, причем на чрезвычайно выгодных для себя условиях. В 1883 году Звенигородский демонстрирует свое собрание А. А. Половцову, после чего в 1885‐м коллекция закупается Музеем училища барона Штиглица за невероятную для этого времени сумму в 130 тысяч рублей.
Продав 662 предмета своей коллекции, А. В. Звенигородский оставил себе только византийские перегородчатые эмали, увлеченно занявшись пополнением этого монографического собрания. О том, как формировалась собственно знаменитая коллекция эмалей, собиратель пишет довольно подробно, но с масштабными умолчаниями. В 1886 году он впервые обнародовал свой замысел – издание «великолепного альбома хромолитографических драгоценных византийских эмалей, входящих в состав его коллекций» на трех языках, с примерной стоимостью всего предприятия в 25 тысяч рублей. Тогда же, в 1886 году, В. В. Стасов по совету Ф. И. Буслаева рекомендовал в качестве автора текста Н. П. Кондакова, который писал 20 октября 1886 года Ф. И. Буслаеву благодарственное письмо: «Благодаря Вашей рекомендации – о чем мне стало известно от Стасова – я получил и первый заказ в моей жизни: составить текст к эмалям Звенигородского. И тема для меня крайне интересная, и деньги для меня большие – по 100 руб. за лист».
Считалось, что А. В. Звенигородский занимался исключительно художественной (полиграфической) стороной этого шедевра. Как и писал впоследствии В. В. Стасов: «Поручив всю научную часть проф. Кондакову, Звенигородский оставил за собою всю художественную. Он проявил здесь такое знание, глубокое художественное чутье и вкус, всем распоряжался, все решал и направлял, и выбрал себе в помощники таких художников, как И. П. Ропет и В. В. Матэ, и при их помощи создал книгу, признанную совершенно единственной». Впрочем, в связи с этой дотошностью Н. П. Кондакова ждал неприятный сюрприз, поскольку Звенигородский стал настойчиво вторгаться в текст, попутно табуируя ряд собственно научных вопросов повествования.
Главной фигурой умолчания стал вопрос о том, каковы же все-таки источники собрания помимо нескольких перечисленных. Писать об этом было ни в коем случае нельзя, хотя для знатоков это секретом не было: значительная часть шедевров собрания имела своим источником, причем вплоть до 1889 года, некоего «жида из Тифлиса» – фотографа и реставратора-любителя С. Ю. Сабин-Гуса. Последний скупал краденые из древних грузинских церквей сокровища (а чаще же сам и организовывал эти кражи, выдавая свою деятельность за «поновление окладов» и утилизацию «серебряного лома»), перепродавая затем вошедшие в невероятную моду у собирателей перегородчатые эмали петербургским коллекционерам – А. А. Бобринскому, М. П. Боткину и А. В. Звенигородскому. Только после того как с катастрофическими последствиями такой деятельности в 1889 году был ознакомлен Александр III, удалось прекратить расхищение грузинских святынь. Однако эмали монастырей Грузии, которые в большинстве своем и составили коллекции трех перечисленных собирателей, имели вопиюще нелегитимное происхождение. В частности, это касалось лучших экспонатов собрания Звенигородского – медальонов с образа архангела Гавриила, которые были в свое время похищены из монастыря Джумати. Вероятно, опасаясь последствий, Звенигородский еще в конце 1880‐х вывез свое собрание в Германию, где и сам провел остаток дней. Поскольку скончался Звенигородский неожиданно, от воспаления легких, судьба его эмалей осталась нерешенной и их постигли обычные испытания, характерные для коллекций, о которых сам собиратель не сумел (или не успел, или не захотел) позаботиться при жизни.
Отдельно стоит упомянуть широко распространенную (и по обыкновению глупую и лживую) «библиофильскую легенду», начатую, кажется, букинистом Ф. Г. Шиловым. Согласно этой стойкой клевете, когда Звенигородский «разорился и принужден был продать свои коллекции эмалей, оказалось, что две трети его собрания были подделкой». Конечно, это не так: даже если допустить, что опытный коллекционер эмалей не распознал подделку, то решительно невозможно помыслить, чтобы на эту же приманку попался выдающийся исследователь и историк древностей Н. П. Кондаков. Это миф, притом столь же нелепый, как и миф о разорении Звенигородского. При этом поддельные образцы действительно существовали: тот же С. Ю. Сабин-Гус, видя жадность петербургских собирателей к памятникам перегородчатой эмали, вступил в сговор с одним из ювелиров мастерской Карла Фаберже и чеканщиком мастерской ювелира А. В. Любавина. Они сообща изготовили ряд подделок, но к тому времени А. В. Звенигородский уже собрал свой корпус, и эти изделия были куплены его конкурентами, прежде всего М. П. Боткиным, который в принципе не верил в подобную фальсификацию, полагая, что «трудность техники» «или, лучше, тот потерянный прием делает эти эмали почти невозможными к подделке». Такая уверенность сыграла с ним шутку, однако, учитывая просто-таки исключительный масштаб собрания византийских эмалей Боткина, превышавший коллекцию Звенигородского вчетверо (!), наличие в ней антикварных реплик было, вероятно, неизбежным. В собрании же Звенигородского поддельных эмалей не было, лишь только краденые.
Посмертная судьба эмалей Звенигородского – лишнее доказательство их подлинности. Еще в 1892 году несколько предметов странным образом оказались у М. П. Боткина (они будут воспроизведены и в «Византийских эмалях», и в 1911 году в каталоге «Собрание М. П. Боткина»); оставшиеся же 39 после смерти собирателя прошли через руки нескольких родственников и оказались в 1909‐м у его сестры Н. В. Звенигородской. Она, выкупив их предварительно из залога, предложила как единую коллекцию русскому правительству за 400 тысяч рублей, отдельно заявив А. А. Бобринскому, что торговаться не намерена. Вопрос был доведен до государя и по воле Николая II отдан на рассмотрение специально созданной Особой комиссии при Совете министров, куда вошли и А. А. Бобринский, и М. П. Боткин, и Н. П. Кондаков. Причем последний счел сумму в 400 тысяч «до невероятия преувеличенною и полагал, что ее следует уменьшить в 4 или даже в 5 раз, тем более что А. В. Звенигородский платил за каждый медальон по 1 тыс. руб.». Это мнение было не единственным в комиссии – несмотря на отсутствие в то время эмалей на мировом антикварном рынке, ее члены категорически не могли решиться заплатить больше того, что было вложено в вещи при покупке (вполне человеческая и широко распространенная реакция, равно порочная для государственных и для частных коллекций), к тому же двое из присутствующих сами имели превосходные собрания эмалей. Кроме того, именно в этот момент Н. П. Кондаков раскрыл наконец карты, заявив, что «самым главным препятствием к высокой оценке предметов служит то, что большинство из них, как и эмали других коллекций, – сплошь краденые, и, строго говоря, должны быть возвращены теперешними обладателями их первоначальным владельцам (кавказским церквам и монастырям)». Этим был брошен камень не столько в покойного, сколько в здравствующих его коллег по промыслу – Бобринского и особенно Боткина, сидевших в том же кабинете. И если последний отмолчался, то Бобринский «выразил со своей стороны желание вернуть по принадлежности купленные им около 25 лет тому назад у неизвестных лиц [sic!] эмали с грузинскими подписями, если на месте будет обеспечено для них безопасное хранение».