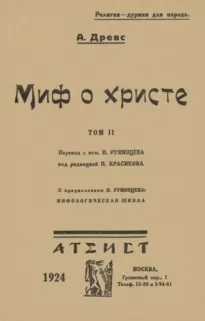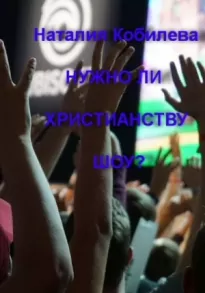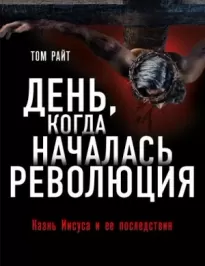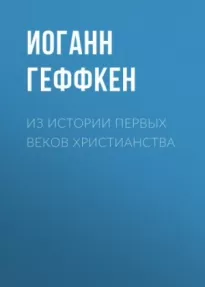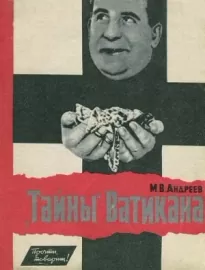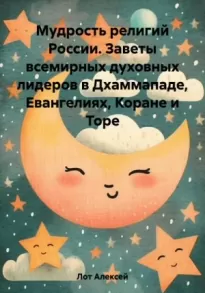Происхождение христианства из гностицизма
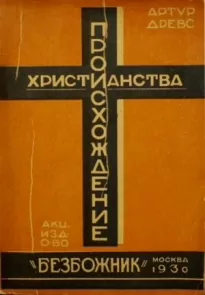
- Автор: Артур Древс
- Жанр: Религиоведение
- Дата выхода: 1930
Читать книгу "Происхождение христианства из гностицизма"
Умирающий и воскресающий бог-искупитель
Чего ожидали иудеи и весь вообще древний мир от своих богов-искупителей, бывших предметом почитания сект и религиозных общин? Жизни.
Моментами, привлекавшими к началу нашей эры все новых и новых приверженцев к многочисленным тайным культам, были: ужас перед смертью и близким концом мира, возникший из страха перед звездными богами и демонами, влиянием которых считали себя окруженными, и вместе с тем ненасытная жажда жизни, не желавшая удовлетвориться кратким земным странствованием творений. Это были главнейшие побудительные причины, давшие толчок к созданию образа избавляющего спасителя и бога-искупителя. Люди требовали верной поруки в том, что их существование будет продолжаться и после смерти. Они хотели сознавать себя огражденными от уничтожающего приговора мировластители при последнем суде. Соответственно тому факту, что бог во всяком комплексе религиозных представлений есть только возведенное в абсолют и воплощенное отражение человеческих желаний и чувств, — «существо, родившееся из желания», по выражению Фейербаха, — люди верили, что нашли такую поруку в образе бога, которому самому смерть не была чем-то чуждым, который, напротив, через смерть достиг своей подлинной и истинной жизни. Спасителю надлежало быть дарователем жизни. Для этого он должен был в прошлом пройти через смерть и выйти победителем из борьбы с нею. «Если бог умирает и воскресает к новой жизни, то можно допускать и воскресение людей к новой жизни. Последнее можно было в этом случае представлять себе исходящим от бога, который сам мыслился воскресающим».
Вера в умирающих и воскресающих богов была широко распространена в древности и составляла, в особенности, принадлежность восточных религий.
В Вавилоне исчезающим, т. е., по-видимому, таким же умирающим и воскресающим богом был Бэл, или Мардук. Он назывался «владыкой жизни» и «любил смертельно больных делать здоровыми, а мертвых живыми». Поэтому он носил титул «милосердного». Он считался «жрецом искупления» между богами, и о нем говорили, что его отец Эа посылает его на землю для оказания помощи людям при болезнях и другим страданиях. Главный праздник в честь его приходился на весеннее равноденствие (месяц нисан) и связывался с «воскресением» бога. Из того факта, что показывали гроб Бэла, следует, что его представляли себе временно пребывающим в царстве мертвых.
Сыном Эа считался и Тамуз, который также ежегодно исчезал и погружался в преисподнюю, в царство мертвых, причем по поводу смерти бога раздавался громкий плач, а его мать Истар, согласно мифу, следовала за ним в преисподнюю, чтобы выпросить сына у бога мертвых и снова вывести его обратно в наш мир.
О воскресении Тамуза у нас нет достоверных преданий, но, как замечает Баудиссин, по-видимому, в песнях (обращенных к Тамузу) местами имеется в виду то время, когда Тамуз снова пребывает в нашем мире. Во всяком случае, мысль о ежегодном возвращении бога с необходимостью вытекает из того факта, что он ежегодно вновь умирал».
Очень близко стоящим к Тамузу или даже тождественным с ним божеством был сирийско-финикийский Адонис. Этому юному богу, во цвете лет претерпевающему насильственную смерть, также был посвящен большой траурный праздник, к которому присоединялся, если не с самого начала, то, во всяком случае уже в очень раннее время (быть может, вследствие слияния культа Адониса с египетским культом Озириса), праздник воскресения этого бога. Громкие вопли, раздававшиеся во время смерти Адониса, относились к тому, что действительно случалось с богом ежегодно. Но в таком случае он должен был мыслиться и вновь оживающим ежегодно.
Достоверные свидетельства имеются у нас относительно веры в смерть и воскресенье финикийских богов Эсмуна и Мелькарта. Как вавилонский Мардук, финикийский Эсмун также понимался, по преимуществу, как врач и бог-спаситель и почитался в образе змеи или хотя бы ставился с таковою в связь. Это обстоятельство напоминает о культе змеи у офитических гностиков, и оно же давало грекам повод к тому, чтобы приравнять финикийско-карфагенского Эсмуна к своему Асклепию, культ которого, равным образом, связывался с культом змеи.
Во Фригии приписывали Аттису смерть от дикого вепря или от ревности Цибелы. В Риме праздновали смерть и воскресение этого бога во время весеннего равноденствия, причем печаль и радость следовали в быстрой смене одна за другой, а возвещенное жрецом воскресение Аттиса приветствовалось необузданным ликованием. На его родине, во Фригии, к тому же было в обычае погребать изображение Аттиса, и ночью, когда скорбь достигала своего высшего пункта, открывать гроб. При этом обнаруживалось исчезновение мертвеца, в чем усматривали доказательство его воскресения. Затем жрец помазывал маслом губы участников торжества и топотом произносил слова:
«Утешьтесь, благочестивые: так как бог спасен, то и для вас настанет спасение от ваших бед». Здесь, следовательно, мы находим веру почитателей Аттиса соединенною с мистическим культом, при котором верующий получает жизнь от магического общения со своим богом.
Египетского Озириса можно с уверенностью считать за умирающего и воскресающего бога. О нем также утверждали, что он в молодости, на 28 году жизни, принял смерть от козней своего брата Сета, или Тифона, но высшим богом Ра был пробужден к жизни и поставлен царем и судьею мертвых. В этом египтяне усматривали залог своей посмертной жизни. Умерший приравнивался к Озирису и носил его имя: «как жив Озирис, так пусть живет и он; как не может умереть Озирис, так пусть не умрет и он; как не уничтожен Озирис, так и он пусть не будет уничтожен».
Но и грекам не чуждо было верование в умирающих и воскресающих богов. К таковым принадлежал Аполлон, как это показал Баур в своем содержательном трактате об Аполлонии Тианском. Еще яснее это выступает у сына Аполлона, Асклепия, или Эскулапа. Его культ пользовался к началу нашей эры очень широким распространением и величайшим уважением, особенно вследствие его слияния с культом сродных семитических богов-спасителей, как напр. Эсмуна. Но прежде всего для греков первообразом страдающего, умирающего и воскресающего бога был Дионис. После того как его отец Зевс поручил ему, еще в самом раннем детстве, господство над миром, он был убит, по сказанию, в юношеском возрасте злыми титанами, но и он, снова ожив и явившись в виде нового Диониса или же под именем Загрея или Орфея, продолжает, подобно Озирису, жить судьею и владыкою в царстве мертвых. Культ Диониса находил свое завершение в экстатическом неистовстве. Его почитатели пожирали своего бога в образе быка и воображали, что таким путем они сливаются с ним и избавляются от смертной участи. Как бог-искупитель офитических гностиков освобождает свою сестру Софию от оков материальности, так и Дионис вывел свою мать Семелу, воплощение человеческой души, из преисподней и таким образом преодолел смерть.
Субстратом всех этих различных богов является мифическое символизирование явлений природы. Наблюдаемые контрасты в природе; смена дня и ночи, зимы и лета; усыхание растительности в жаркое время года и ее возрождение в новом году; ежегодное нисхождение солнца на нижнюю дугу эклиптики, в так наз. небесную «преисподнюю» в осеннее равноденствие и его возвращение в «верхний мир» ко времени весеннего равноденствия; умирание и оживание природы; ежемесячное исчезание луны и ее появление вновь после трех дней («на третий день») — все это породило миф о боге, претерпевающем страдание и приемлющем смерть, но снова радостно воскресающем и приносящем, с обновлением природы, залог новой жизни. Возможно, что все эти боги были первоначально, как это теперь склонны предполагать, богами растительности, умирание и оживание которых является отражением соответствующих явлений в царстве растений. К тому времени, от которого мы имеем о них более точные сведения, большинство из них, во всяком случае, приняло характер световых божеств или слилось с таковыми, при чем в них выступает яснее то природа солнца, то природа луны. Каждый месяц луна «умирает» и снова оживает[14]). Каждый вечер солнце опускается за горизонт, чтобы в ближайшее утро снова выплыть над ним. Боги света исчезают, уходят, но не навсегда. Они сходят вниз в царство мертвых, которое древние, как известно, полагали на западе, там, где солнце заходит. Но преисподняя не в силах удержать их. Они снова приходят с первым солнечным лучом или проблеском лунного света. Они вновь родятся при зимнем солнцевороте, и земля украшается, чтобы по-праздничному принять их. Замершая зимою жизнь вновь пробуждается. Зимние силы и звездные духи, — в первую очередь, враждебные свету змеиные созвездия, — убегают под горизонт, и сердца с ликованием встречают победоносного носителя света. Между небом и землею существует самая тесная связь. То, что происходит здесь, внизу, есть только микрокосмическое отражение макрокосмических событий там, наверху. Картина происходящего на небе соответствует картине происходящего в нашем мире, и наоборот. Бог нисходит на землю, страдает и подпадает власти смерти, но он делает это, имея в виду мир человеческий, чтобы даровать последнему жизнь. Его смерть есть самопожертвование бога для искупления человека от проклятия смертной муки. И если он разрушает силу смерти, если он снова воскресает из могильной тьмы, то он делает это заодно для тех, которые внутренне связаны с ним. Принося в жертву богу свою самость, вновь обретают свою жизнь и те, кто с ним.
Мы не думаем, что относительно всех упомянутых здесь божеств мысль, что их смерть есть самопожертвование ради людей, выдвигалась на первый план; в отношении некоторых из них она, быть может, даже совершенно отсутствовала. Все же она должна была сама собою утвердиться, как только соответствующие боги были поставлены определенными сектами в центре их культа и использованы для идеи искупления. К этому присоединилось еще нечто: страдание, смерть и воскресение бога сплошь и рядом, как мы это видели относительно Аттиса, изображались в культе драматически; более того, жертва бога совершалась на живой личности, которая как бы отдавала себя и делала возникающую из смерти бога новую жизнь плодотворною для его почитателей. Последние, по-видимому, понимали жертву как искупление за грехи прошедшего года, и отсюда позже возникла мысль, что и соответствующий бог своею смертью, в качестве заместителя, погашал из великой долговой книги прегрешения своих сторонников. Вообще первоначально царям и жрецам приходилось претерпевать в таком виде смерть за свою религиозную группу, и лишь с прогрессом культуры подлинный царь или жрец стали замещаться мнимым царем или жрецом: их начали подменивать рабами или преступниками, или же человеческая жертва стала заменяться жертвою животных, а то и совершаться лишь символически.
Иудеи жили посреди народов, у которых существовал культ умирающего и воскресающего бога. Что они, в этих условиях, были хорошо знакомы с мифом о подобного рода божествах, это само собою разумеется и, кроме того, подтверждается целым рядом недвусмысленных показаний ветхого завета (ср. Езек. 8, 14; Амос 8, 10; Иерем. 6, 26; 34, 5; Зах. 12, 10)[15]. Иудейский обычай ежегодно в осеннее время (когда Козерог достигает глубочайшего пункта своего пути на нижнем меридиане) изгонять козла отпущения в пустыню показывает, как привилось у иудеев представление, что одно живое существо могло снять с людей бремя их вины и своею смертью, в качестве заместителя, искупить грехи народа. По кн. II Маккав. (7, 36), семь братьев претерпевают смерть за закон с определенною надеждою, что бог пробудит их к новой, вечной жизни, и что их безвинная смерть отвратит от Израиля гнев всемогущего. В книге IV Маккавеев мы читаем: «Кровью тех благочестивых и их искупительной смертью божественное провидение спасло угнетенный ранее народ израильский» (17, 21), а умирающий Елеазар молит бога: «Дай моей крови послужить им к очищению и прими мою душу взамен их души!» (6, 29 и сл.). Подобно тому как тирский Мелькарт, по сказанию, принес в жертву своего «единородного» сына Егуда пред воротами города, оказав ему предварительно Царские почести; подобно тому, как финикийцы в Тире еще вплоть до времени осады этого города Александром Великим ежегодно, согласно Плинию приносили мальчика в жертву Кроносу (Мелькарту, или Молоху), — точно так же было и в Израиле время, когда наступление весеннего равноденствия чествовали умерщвлением перворожденного. В рассказе о принесении в жертву Исаака Авраамом до нас дошел отголосок того времени. Пасхальный агнец у иудеев был заменою прежней человеческой жертвы. Можно даже полагать, что Моисей и Арон, один в качестве вождя, другой в качестве первосвященника народа, также принесли себя в жертву за народ свой, хотя этот факт в дошедшей до нас редакции ветхого завета всемерно затемняется и затирается (Числ. 20, 22 и сл.; 27, 12 и сл.; 33, 37 и сл. Второз. 32, 48 и сл.).