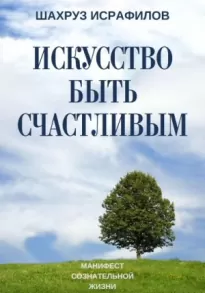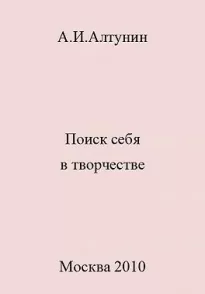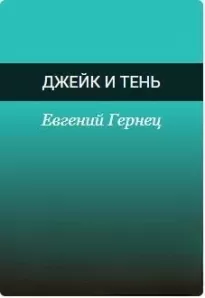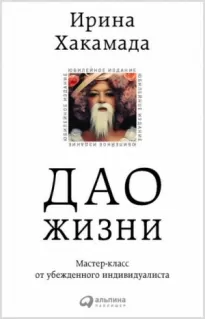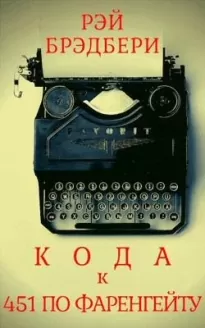Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы

- Автор: Дмитриева Екатерина
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы"
Мы были озадачены его словами, – продолжал далее С. Т. Аксаков, – и подумали, что он говорит о первом томе «Мертвых душ». Константин даже встал, чтоб принести их сверху, из своей библиотеки, но Гоголь удержал его за рукав и сказал: «Нет, уж я вам прочту из второго», – и с этими словами вытащил из своего огромного кармана большую тетрадь. Я не могу передать, что сделалось со всеми нами. Я был совершенно уничтожен. Не радость, а страх, что я услышу что-нибудь недостойное прежнего Гоголя, так смутил меня, что я совсем растерялся. Гоголь был сам сконфужен. Ту же минуту все мы придвинулись к столу, и Гоголь прочел первую главу 2‐го тома «Мертвых душ». С первых страниц я увидел, что талант Гоголя не погиб, – и пришел в совершенный восторг. Чтение продолжалось час с четвертью. Гоголь несколько устал и, осыпаемый нашими искренними и радостными приветствиями, скоро ушел наверх в свою комнату <…>. Я не стану описывать, в каком положении были мы все, особенно я, который считал его талант погибшим. Тут только мы догадались, что Гоголь с первого дня имел намерение прочесть нам первую главу из второго тома «Мертвых душ», которая одна была отделана, по его словам, и ждал от нас только какого-нибудь вызывающего слова. Тут только припомнили мы, что Гоголь много раз опускал руку в карман и хотел что-то вытащить, и вынимал пустую руку[138].
О событиях этого дня рассказала также В. С. Аксакова М. Г. Карташевской в письме от 29 августа 1849 года из Абрамцева:
Не могу умолчать перед тобой о том, что нас так порадовало, но это великий секрет. 19 числа Гоголь читал нам первую главу второго тома М<ертвых> д<уш>, и, слава Богу, это так хорошо, даже выше и глубже первой части, по общему приговору. Ты можешь себе представить, как мы были обрадованы. В этот день 19 числа Гоголь с утра собирался съездить к Троице <…>. Гоголь воротился только в 8 часов вечера, когда мы все сидели за нашим круглым столом в гостиной, занятые работой и чтением <…>. Он рассказывал про свою поездку, потом пошли пить чай, он показал нам образок, которым благословил его Наместник (преподобный Антоний (Медведев). – Е. Д.). У Троицы Гоголь виделся с от<цом> Феодором <Бухаревым>, бакалавром, который писал ему чрезвычайно умные и замечательные, по словам Гоголя, заметки на его Книгу. После чаю мы воротились в гостиную. Константин уже дремал. Гоголь его подталкивал, будил и сказал: «Прочтемте что-нибудь, хоть бы Мертв<ые> души». Конста<нтин> сказал: «Очень рад, сейчас принесу» (он и мы все думали, что Гоголь говорил о первом томе М<ертвых> д<уш>), встал и хотел было уже идти наверх за книгой, но Гоголь сказал: «Да уж лучше я сам вам прочту…» – и вытащил из кармана тетрадь. Мы – обомлели, едва переводили дыхание от ожидания. Гоголь начал читать первую главу второго тома М<ертвых> Д<уш> – первые минуты прошли еще в смутном состоянии и радости, и опасения, что то, что услышим, не будет иметь достоинства прежних сочинений Гоголя. Но вскоре мы убедились, что опасения наши были напрасны; слава Богу, Гоголь все тот же, и еще выше и глубже во втором томе[139].
Этим же числом (29 августа 1849 года) было датировано и встречное письмо С. Т. Аксакова И. С. Аксакову:
Не могу долее скрывать от тебя нашу общую радость: Гоголь читал нам первую главу 2‐го тома Мертвых душ. Слава Богу! Талант его стал выше и глубже; мы обещали ему не писать даже и к тебе, но нет сил молчать. Глава огром(ад)нейшая. Чтение продолжалось час с четвертью…[140]
С. Т. Аксаков вспоминал впоследствии, как на другой день после чтения он «пришел наверх к Гоголю, обнял его и высказал всю <свою> радость» и как Гоголь сказал ему «с светящимся, радостным лицом: „Фома неверный“»[141]. По дороге из Абрамцева в Москву Гоголь обратился к С. Т. Аксакову и Константину Аксакову: «Ну, говорите же мне теперь всё, что вы заметили в первой главе»[142].
В тот вечер разговор о «Мертвых душах» прервал неожиданный приезд А. С. Хомякова. Гоголь уехал в Москву, «один и как будто не так весел». После этого С. Т. Аксаков написал ему письмо, в котором «откровенно признался <…> во всех <…> сомнениях, уничтоженных первою гл<авою> 2‐го тома Мер<твых> д<уш>». «Тут же, – писал далее С. Т. Аксаков, – я сделал ему несколько замечаний и указал на особенные, по моему мнению, красоты» (Аксакову показался несколько «длинным и натянутым рассказ об Александре Петровиче» и односторонней «встреча в деревне крестьянами молодого барина»[143]).
Дальнейшие события, как вспоминал С. Т. Аксаков, развивались следующим образом:
Получив мое письмо, Гоголь был так доволен, что захотел видеть меня немедленно. <…> Он нанял карету, лошадей и в тот же день прискакал к нам в Абрамцево. Он приехал необыкновенно весел или, лучше сказать, светел, долго и крепко жал мне руку и сейчас сказал: «Вы заметили мне именно то, что я сам замечал, но не был уверен в справедливости моих замечаний. Теперь же я в них не сомневаюсь, потому что то же заметил другой человек, пристрастный ко мне»[144].
В Абрамцеве Гоголь прожил «целую неделю; до обеда раза два выходил гулять и остальное все время работал»[145]. Семья просила Гоголя прочесть следующие главы, но «он убедительно просил» С. Т. Аксакова, чтобы тот «погодил», и тут же признался, что прочел уже несколько глав Смирновой и Шевыреву, «что сам увидел, как много надо переделать, и что прочтет <…> их непременно, когда они будут готовы»[146].
О работе Гоголя в пору его пребывания в Абрамцеве вспоминала, в частности, О. С. Аксакова в письме И. С. Аксакову конца сентября 1849 года, сожалея, что «не решилась» тогда заглянуть в содержание гоголевских тетрадей:
Время делается холодно, и я боюсь, что Гоголь не приедет сюда к нам, а как хочется послушать. Какой был для меня соблазн, когда Гоголь оставил портфель и все тетради сбоку так и виднелись, что можно было что-нибудь прочесть, но я никак не решилась[147].
В. С. Аксакова тоже вспоминала:
Гоголь обыкновенно все дообеденное время проводил у себя наверху и, по всему вероятию, писал (письмо М. Г. Карташевской от 20 августа 1849 года, Абрамцево[148]).
Собственно, именно с этого времени (конец лета – начало осени 1849 года, которые Гоголь проводит в Абрамцеве у Аксаковых) в его письмах появляются сообщения о «работе». Впрочем, то, что это работа над поэмой, он по-прежнему избегает упоминать:
Все время мое отдано работе, часу нет свободного. Время летит быстро, неприметно. <…> Избегаю встреч даже со знакомыми людьми от страху, чтобы как-нибудь не оторваться от работы своей. Выхожу из дому только для прогулки и возвращаюсь сызнова работать. <…> С удовольствием помышляю, как весело увижусь с вами, когда кончу свою работу» (письмо к С. М. Соллогуб и А. М. Виельгорской от 20 октября 1849 года, Москва).
Около ноября 1849 года Гоголь получает в ответ на свои просьбы сообщать ему замечания о первом томе «Мертвых душ» письмо от К. И. Маркова, отставного поручика и помещика Лебединского уезда Харьковской губернии, следующего содержания:
…признаюсь вам, вы задумали план громадный и опасный. Из превосходного творения может выйти избитая история, а может быть еще более превосходное творение. Если вы хотите представить общество русское, как оно есть, то хорошая сторона его существует, и изображение его в вашем романе неизбежно; но если вы выставите героя добродетели, то роман ваш станет наряду с произведениями старой школы. Не пересолите добродетели. Изобразите нам русского человека, но в каждодневном его быту, а не исключительное лицо, которые встречаются у всех народов[149].
В ответном письме Маркову Гоголь излагает свое намерение найти «очень трудный, рискованный путь – минуя идеализацию, к полноте и многосторонности»[150], которое он и собирался осуществить во втором томе:
Что же касается до II тома «М<ертвых> душ», то я не имел в виду собственно героя добродетелей. Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков. Дело только в том, что характеры значительнее прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни, нами опошленной, обнаружив видней русского человека не с одной какой-либо стороны (письмо К. И. Маркову от 3 декабря 1849 года, Москва).
Совет Маркова перекликался с замечаниями слушателей второго тома, в частности Смирновой и Арнольди, предостерегавших Гоголя от идеализации. Еще менее хотел Гоголь идеализировать в поэме себя.
«Скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования. Может быть, оттого, что русскому герою с русским народом нужно быть несравненно увертливей, нежели греческому с греками. Может быть, и оттого, что автору „Мертвых душ“ нужно быть гораздо лучше душой, нежели скотина Чичиков», – писал он В. А. Жуковскому осенью 1849 года[151], полагая при этом, что второй том «Мертвых душ» может подготовить читателя к восприятию «вечных красот» Гомера, над переводом которого тот тогда работал:
Никакое время не было еще так бедно читателями хороших книг, как наступившее. <…> Временами мне кажется, что II-й том «Мерт<вых> душ» мог бы послужить для русских читателей некоторою ступенью к чтенью Гомера. Временами приходит такое желанье прочесть из них что-нибудь тебе, и кажется, что это прочтенье освежило бы и подтолкнуло меня – но… Когда это будет? когда мы увидимся? Вот тебе все, что в силах сказать (письмо от 14 декабря 1849 года).
Но вместе с тем появляются и новые сомнения. В том же письме Жуковскому Гоголь выказывает и глубоко пессимистический взгляд на ситуацию личного и общественного нездоровья. Появление его поэмы в этой ситуации кажется ему, как это было в пору работы над «Выбранными местами из переписки с друзьями», слишком несвоевременным для не подготовленного к ней общества:
Полтора года моего пребыванья в России пронеслось, как быстрый миг, и ни одного такого события, которое бы освежило меня, после которого, как бы после ушата холодной воды, почувствовал бы, что действую трезво и точно действую. Только и кажется мне трезвым действием поездка в Иерусалим. Творчество мое лениво. Стараясь не пропустить и минуты времени, не отхожу от стола, не от<о>двигаю бумаги, не выпускаю пера – но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно. Или, в самом деле, 42 года есть для меня старость, или так следует, чтобы мои «Мертвые души» не выходили в это мутное время, когда, не успевши отрезвиться, общество еще находится в чаду и люди еще не пришли в состояние читать книгу как следует, то есть прилично, не держа ее вверх ногами? Здесь всё, и молодежь и стар<ость>, до того запуталось в понятиях, что не может само себе дать отчета. Одни в полном невежестве дожевывают европейские уже выплюнутые жеваки. Другие изблевывают свое собственное несваренье. Редкие, очень, очень редкие слышат и ценят то, что в самом деле составляет нашу силу. Можно сказать, что только одна церковь и есть среди нас еще здоровое тело (письмо от 14 декабря 1849 года, Москва).
На следующий день почти о том же он пишет и П. А. Плетневу:
…нашло на меня неписательное расположение. Все кругом меня жалуются, что не пишу. <…> «Мертвые души» тоже тянутся лениво. Может быть, так оно и следует, чтобы им не выходить теперь. Люди, доселе не отрезвившиеся от угару, не годятся в читатели… (письмо от 15 декабря 1849 г., Москва).