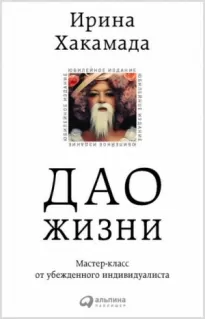Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы

- Автор: Дмитриева Екатерина
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы"
В поисках «живого портрета»
Выше уже упоминалось о том, что в письме А. О. Смирновой от 22 февраля 1847 года Гоголь просил присылать отклики на «Выбранные места из переписки с друзьями», так необходимые ему для продолжения поэмы:
Друг мой, не позабывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые «Мертвые души», которых начало явилось в таком неприглядном виде. Друг мой, искусство есть дело великое. Знайте, что все те идеалы, которые напичкали в головы французские романы, могут быть выгнаны другими идеалами. И образы их можно произвести так живо, что они станут неотразимо в мыслях и будут преследовать человека в такой степени, что львицы возжелают попасть в другие львицы. <…> Вот почему я с такою жадностью прошу, ищу сведений, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять. Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято. Тогда только он проснется и тогда только может сделаться другим человеком. Друг мой, вот вам исповедь литературного труда моего.
В том же письме далее следовало:
Пишите ко мне чаще, и говорю вам нелицемерно, что это будет с вашей стороны истинно христианский подвиг, и если хотите доброе даянье ваше сделать еще существеннее, присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет какого-нибудь из тех лиц, среди которых обращается ваша деятельность, чтобы я по нем мог получить хоть какую-нибудь идею о том сословии, к которому он принадлежит в нынешнем и современном виде. Например, выставьте сегодня заглавие: Городская львица. И, взявши одну из них такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками – и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом – личный портрет во всех подробностях. Потом завтра выставьте заглавие: Непонятая женщина и опишите мне таким же образом непонятую женщину. Потом: Городская добродетельная женщина. Потом: Честный взяточник; потом: Губер<н>ский лев. Словом, всякого такого, который вам покажется типом, могущим подать собою верную идею о том сословии, к которому он принадлежит. Вспомните прежнюю вашу веселость и уменье замечать смешные стороны человека, и, вооружась ими, вы сделаете для меня живой портрет…
Супругов Данилевских Гоголь также просил описывать «сорта людей» – «Киевского льва», «Губернскую femme inomprise»[604], «Чиновника-европейца», «Чиновника-старовера»… Жену Данилевского он уговаривал:
А вас прошу, моя добрая Юлия, или по-русски Улинька <…>, если у вас будет свободное время в вашем доме, набрасывать для меня слегка маленькие портретики людей, которых вы знали или видаете теперь, хотя в самых легких и беглых чертах. <…> мне теперь очень нужен русский человек, везде, где бы он ни находился, в каком бы звании и сословии он ни был. Эти беглые наброски с натуры мне теперь так нужны, как живописцу, который пишет большую картину, нужны этюды. <…> Если же вас Бог наградил замечательностью особенною и вы, бывая в обществе, умеете подмечать его смешные и скучные стороны, то вы можете составить для меня типы, то есть, взявши кого-нибудь из тех, которых можно назвать представителем его сословия или сорта людей, изобразить в лице его то сословие, которого он представитель, – хоть, например, под такими заглавиями: Киевский лев; Губернская femme incomprise; Чиновник-европеец; Чиновник-старовер, и тому подобное. А если душа у вас сердобольная и состраждет к положенью других, опишите мне раны и болезни вашего общества. Вы сделаете этим подвиг христианский, потому что из всего этого, если Бог поможет, надеюсь сделать доброе дело. Моя поэма, может быть, очень нужная и очень полезная вещь, потому что никакая проповедь не в силах так подействовать, как ряд живых примеров, взятых из той же земли, из того же тела, из которого и мы (письмо от 6 (18) марта 1847 г., Неаполь).
Приведенные выше извлечения из писем очень ярко свидетельствуют о том, насколько Гоголь в это время одержим был идеей, для выражения которой подбирал слова хотя и разные, но, по сути, ставшие чередой окказиональных синонимов: очерк, живой портрет, личный портрет, живой пример, тип. О своем предприятии Гоголь говорил при этом как об исконно русском, резко критикуя идеалы, которыми «напичкали головы французские романы».
Парадокс же этой «русскости» заключался (как это часто бывает) в том, что гоголевский замысел получить «живые портреты» от своих знакомых, чтобы использовать их далее в собственной прозе, неожиданно и, по-видимому, неосознанно для самого писателя (а может быть, и нет) оказался в мейнстриме тех процессов, которые происходили в это время в западноевропейской литературе.
Позволю себе сразу же оговорку. Все, о чем ниже пойдет речь, есть отнюдь не поиск генезиса тех или иных гоголевских художественных идей, тем более что генезис, если им серьезно заниматься, требует доказательств, а ими в данном случае мы не располагаем. Задача, которую я здесь ставлю перед собой, – это скорее воссоздание того достаточно широкого контекста жанровых поисков и художественных идеологем, в который вписывалась уникальная в своем роде попытка Гоголя придать своему художественному тексту этическую телеологию, не посягнув при этом на собственно эстетическое его качество.
Казалось бы, «новая» литература в Англии (Байрон, Шелли…) и во Франции, где в 1830–1840‐е годы тон задавали «неистовые» романы, заставила европейцев забыть добрые старые нравоописательные очерки, занимавшие столь большое место в литературе предшествующих периодов. Однако литература эта, претендовавшая на новизну, очень быстро сама превратилась в клише и, если и не наскучила многим, то, во всяком случае, заставила с большей серьезностью взглянуть на те ценности, которые ею же и были отринуты. Русский литератор, пытавшийся осмыслить закономерности данного процесса, писал:
Новая школа и юная литература должны были уступить общему мнению и обратиться от вычурности к прежней простоте, от клеветы на род человеческий к истине и сознаться, что в людях более смешного и странного, нежели зверского и бесчеловечного, более глупости, нежели зла, более легкомыслия, нежели злоумышления, и что между людьми злодеи составляют только исключение, а все мы, и писатели, и читатели, имеем свои слабости, которые можно осмеивать, а не должно пугать ими, увеличивая в миллион раз посредством микроскопа[605].
Литератора этого звали Фаддей Булгарин, а поводом для его, нужно признать, весьма проницательного выступления стало запущенное в 1839 году парижское издание многотомного сборника под названием Les Français peints par eux-mêmes («Французы, нарисованные ими самими»)[606], на которое он написал восторженную рецензию в «Северной пчеле». Издание, в котором, как писал Булгарин, был возобновлен прежний литературный жанр, «есть картинная галерея, или собрание нравственных портретов».
Впрочем, французы не были в этом жанре первооткрывателями: первый его образец дала, по всей видимости, Англия, где с 1838 года выходила отдельными выпусками книга Heads of the People, or Portraits of the English (название это принято переводить как «Образы народа, или Портреты англичан», хотя слово head дословно означает голову или лицевую сторону монеты с изображением головы и привносит в название дополнительное метафорическое значение)[607]. Это был коллективный сборник, содержавший описания разных английских типов: «Полисмен», «Врач-шарлатан», «Писательница» и пр.
Очень быстро сборник нравственных портретов современников становится своего рода жанровой моделью. В Бельгии выходят «Бельгийцы, нарисованные ими самими», в Мадриде – «Испанцы, нарисованные ими самими» (1843). В 1841 году также и петербургский издатель А. Башуцкий начинает выпускать по образцу французского издание, названное «Наши, списанные с натуры русскими»[608]. В данном случае зависимость от французского образца ни для кого не оставалась тайной, и автор анонимной заметки под названием «Французы, воспетые французами» не без иронии писал в петербургском журнале: «Многие из наших читателей, конечно, знают французское роскошное издание „Французы, описанные французами“, породившее у нас подобное же издание „Наши, описанные русскими“»[609].
Описательный прием и порожденная им формула сохранялась в сознании людей XIX века еще довольно долго. Так, А. И. Герцен в «Былом и думах» (ч. 5, гл. 37) пишет о своем намерении «в порыве раздражения и горького смеха» сочинить книгу «Изгнанники, нарисованные ими самими» (Les réfugiés peints par eux-mêmes).
Очерки в сборниках подобного рода представляли собой, как правило, портреты современников, имевших не только разные профессии, но и разный нрав. В них описывались одежда, занятия, привычки и пристрастия представителей разных социальных групп: от герцогини до горничной, от министерши до акушерки, от салонной певицы до гризетки, от «женщины без имени» до «балетной крысы». Это могли быть природные типы (скупец или честолюбец), общественные (судья, торговец, военный), национальные (курильщик опиума или любитель пива), профессиональные (садовник, палач, трубочист, жандарм, адвокат, кондуктор дилижанса, торговцы тем или иным товаром и т. д.), социальные (герцогиня, знатная дама 1830 года), социально-психологические («непризнанная душа» или фат), а также светские (львица, модная красавица)[610]. Последние категории вновь возвращают нас к Гоголю, который, как мы помним, уж очень хотел получить от своих друзей портрет и городской львицы, и непонятой, «непризнанной» души (femme incomprise).
Еще одна черта, которая сближает гоголевское начинание с очерками подобного рода, – забота о потомках, которым важно знать… В отношении «Французов» идею эту сформулировал однажды Теофиль Готье:
Если бы какому-нибудь античному Кюрмеру пришла в голову идея выпустить сочинение «Римляне, нарисованные ими самими» и оно дошло бы до нас, да еще украшенное миниатюрами, разве этот памятник не считался бы бесценным? <…> Через тысячу лет такую же огромную историческую ценность будут представлять «Французы, нарисованные ими самими». Сколько любопытнейших сведений обнаружат там авторы, которые будут сочинять средневековые романы о нашем времени[611].
Надо признать, что забота о потомках для оправдания нравоописательных портретов и картин кажется, если взглянуть из исторической перспективы, почти национальной чертой французов. Так, еще на исходе XVIII века Луи-Себастьян Мерсье в очерке, открывавшем его «Картины Парижа», приводил сходную мотивировку:
Если бы в конце каждого века здравомыслящий писатель составлял общую картину того, что его окружает, если бы он изображал в точном соответствии с увиденным нравы и обычаи, сегодня мы имели бы весьма любопытную галерею, которая содержала бы тысячу подробностей, о которых мы теперь не имеем ни малейшего понятия <…>. Смею надеяться, что через сотню лет публика вернется к моей «Картине»…[612]
И тем более показательно, что логика эта, хотя и с несколько смещенным акцентом, присутствует и у Гоголя. Просто заботу эту он переносит с потомков – на современников, для душевной пользы которых и создаются живые картины.