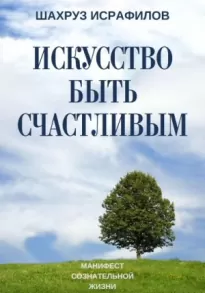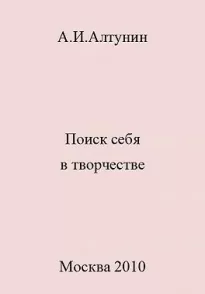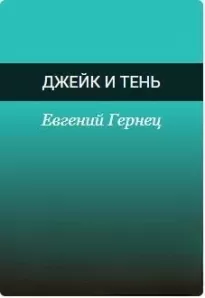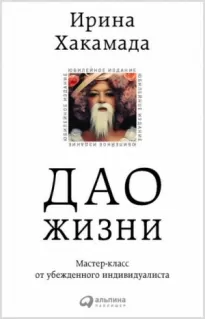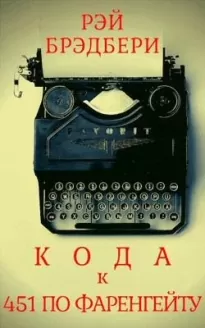Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы

- Автор: Дмитриева Екатерина
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы"
В другом письме Россету речь шла о присылке «„Иллюстрации“ Кукольника за прошлый год», а также повестей В. И. Даля, которого Гоголь особенно выделял среди писателей новой школы («Этого писателя я уважаю потому, что от него всегда заберешь какие-нибудь сведения положительные о разных проделках в России», – писал он 30 января (11 февраля) 1847 года из Неаполя). А в статье «О Современнике» (1846) дал прозе Даля характерную оценку:
По мне он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанью русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочинения – живая и верная статистика России[533].
Еще одним представителем натуральной школы, произведениями которого Гоголь живо интересовался во второй половине 1840‐х годов, был Я. П. Бутков, чью книгу «Петербургские вершины» (1846) он также просил Россета ему прислать. «В прошлом году вышла книжка „Петербургские вершины“, – писал Гоголь в том же письме, – ее мне пришлите обе части».
«Вообще все, что только зацепило хоть сколько русского человека в его жизни, – продолжал он в другом послании тому же корреспонденту, – мне теперь очень нужно» (письмо от 12 (24) апреля 1847 г., Неаполь). В чуть более раннем письме Россету от 3 (15) апреля 1847 года из Неаполя Гоголь прямо устанавливает причину своих просьб:
Скажу вам не шутя, что я болею незнанием многих вещей в России, которые мне необходимо нужно знать. Я болею незнаньем, что такое нынешний русский человек на разных степенях своих мест, должностей и образований. Все сведения, которые я приобрел доселе с неимоверным трудом, мне недостаточны для того, чтобы «Мертвые души» мои были тем, чем им следует быть. Вот почему я с такою жадностью хочу знать толки всех людей о моей нынешней книге, не выключая и лакеев. Собственно, не ради книги моей, но ради того, что в суждении о ней высказывается сам человек, произносящий суждение.
Прочитав тогда же «с любопытством» «Письма об Испании» (1847) В. П. Боткина и «Парижские письма» (1847–1848) П. В. Анненкова, Гоголь укоряет последнего в отсутствии «внутренней задачи»[534], призывая, как уже было упомянуто выше, «дагер<р>отипировать» вместо Парижа «русские города, начиная с Симбирска» (письмо от 12 августа 1847 г., Остенде). В программе, которую он излагает Анненкову, вполне возможно, зашифровано представление о том, чем должно было стать продолжение его собственной поэмы.
Еще один пласт чтения, который тесно был связан одновременно с работой над вторым томом и с поставленной задачей «разрешить самому себе, что такое нынешний русский человек во всех сословиях…» (письмо П. В. Анненкову от 31 июля (12 августа) 1847 г., Остенде), представляли для Гоголя труды по этнографии и русские летописи.
Н. М. Языкова Гоголь просил прислать «летописи Нестора, изданные Археографическою комиссиею <…> и, в pendant к ним, „Царские выходы“; во-вторых, „Народные праздники“ Снегирева и, в pendant к ним, „Русские в своих пословицах“ его же». И добавлял: «Эти книги мне теперь весьма нужны, дабы окунуться покрепче в коренной русский дух» (письмо от 8 (20) января 1847 г., Неаполь).
О том, что Гоголь внимательно читал труд И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837–1839. Вып. 1–4), свидетельствуют не только его записные книжки[535], но и непосредственное использование сделанных им заметок в главах второго тома. Описание Красной горки, занесенное в записную книжку 1846–1851 годов[536], отразится в описании праздника весны, о котором говорит в главе IV брат Платонова Василий, видя в этом празднике «обычай», для которого сам он «готов пожертво<вать> лучше другими, лучшими землями».
Хороводные игрища, сопровождающие Красную горку, из которых Гоголь в особенности выделяет в своей записи «игрище плетень», включаются им затем в сцену весенних хороводов, в которых участвует Селифан («На деревне что ни вечер <…> заплетались и расплетались весенние хороводы»).
Другим источником, из которого Гоголь мог почерпнуть описание данной игры, могла послужить Гоголю книга И. П. Сахарова «Сказания русского народа» (1841)[537]. К труду Снегирева, вполне вероятно, восходил и эпизод несохранившейся главы, описанный Л. И. Арнольди, когда Улинька, решившись на брак с Тентетниковым, «вечером <…> ходила на могилу матери и в молитве искала подкрепления своей решимости»[538].
О чтении Гоголем зимой 1847–1848 годов «вслух» русских песен, «собранных Терещенкою» (речь шла о книге А. В. Терещенко «Быт русского народа» (СПб., 1848. Т. 1–4)), о гоголевском восторге «особенно от свадебных песен», одна из которых отозвалась в первой главе второго тома «Мертвых душ», писала и В. С. Аксакова в письме М. Г. Карташевской от 29 ноября 1848 года[539].
Еще одним источником Гоголя при работе над вторым томом могли быть записи братьев Языковых, в частности былинная версия сюжета об исцелении Ильи Муромца[540]. История пробуждения героя-сидня и превращения его в богатыря, по-видимому, определяла дальнейшую эволюцию Тентетникова и даже Чичикова, которому Муразов обещал превращение в «богатыря»[541].
Помимо сочинений по статистике и этнографии, Гоголя в период работы над вторым томом «Мертвых душ» в особенности интересовали истории и сочинения религиозного характера[542]. В письме от ноября 1842 года он просил Н. Н. Шереметеву извещать его «обо всех христианских подвигах, высоких душевных подвигах, кем бы ни были они произведены». От Н. М. Языкова он ждал присылки изданий соответствующей тематики (см. с. 33 наст. изд.):
1) Розыск, Дмитрия Ростовского; 2) Трубы словес и Меч духовный, Лазаря Барановича и 3) Сочинения Стефана Яворского в 3 частях, проповеди (письмо от 23 сентября (5 октября) 1843 г., Дюссельдорф).
Речь соответственно шла о сочинении Дмитрия Ростовского «Розыск о раскольнической брынской вере» (М., 1783), проливающем дополнительный свет на генезис раскольничьей темы во втором томе, собраниях проповедей Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского и Новгород-Северского (в миру – Лука Баранович; 1616 или 1620 – 1693), «Меч духовный» (Киев, 1666; 1686) и «Трубы словес проповедных на нарочитые дни праздников господских, Богородичных, Ангельских, Пророческих… и проч.» (Киев, 1674), а также трудах Стефана Яворского (1658–1722), посмертно изданных в Москве в 1804–1805 годах («Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворского, преосвященного митрополита Рязанского и Муромского, бывшего местоблюстителя престола Патриаршего, высоким учением знаменитого, и ревность по благочестии преставного»; ч. 1–3).
Да хотел бы я иметь, – добавлял в том же письме Гоголь, – Русские летописи, издан<ные> Археографич<ескою> комиссиею, если не ошибаюсь, есть уже три, когда не четыре тома. Да Христианское чтение за 1842 год.
По сравнению с первым томом во втором томе усилилась роль библейских, старозаветных и новозаветных реминисценций и мотивов. С образом потерянного человечеством рая связан центральный для второго тома мотив «инобытийной реальности», которой причастен любой человек, но которая оживает в тех героях Гоголя, кому суждено духовное возрождение. Это и ощущение «незапамятного младенчества, в каком-то родном доме», возникающее в разговоре с Улинькой, и богословские основания хозяйственной деятельности самого Костанжогло (Скудронжогло), заставляющие вспомнить об изначальном призвании человека «хранить и возделывать сад» (Быт. 2: 15)[543].
Среди библейских источников второго тома важное место занимает притча о блудном сыне, определяющая обрисовку образа Хлобуева[544]. По мысли исследовательницы, на пересечении новозаветных мотивов милости и правды, свободы и «устремленного движения» строится описание Улиньки, заставляющее вспомнить о действиях Христа и Святого Духа[545].
Читавшиеся Гоголем в 1840‐е годы травелоги, русские летописи, произведения учительной литературы, книги и журналы, а также книги Ветхого и Нового Заветов, мотивы которых присутствуют во втором томе, можно считать в определенной степени субстратом, подпитывавшим работу над продолжением поэмы. Но с ними же одновременно мы вступаем и в область типологии, где литературное воздействие и усвоение не всегда отличимо от непроизвольных сюжетных и смысловых совпадений.
Тема помещика, чье мудрое управление делает крестьян счастливыми, и которая присутствует в обрисовке Костанжогло (Скудронжогло), на самом деле широко обсуждалась в литературе начиная с 1810‐х годов и легла в основу ряда утопических и нравоописательных текстов (например, «Письма русского офицера» (1815–1816) Ф. Н. Глинки, повести А. А. Бестужева-Марлинского «Испытание» и В. А. Ушакова «Киргиз-кайсак» (1835)[546]).
Исследователи нередко сопоставляли персонажей второго тома с героями нравоописательных романов: Петух сопоставлялся с помещиком Парамоном из романа В. Т. Нарежного «Аристион, или Перевоспитание» (1822)[547], Костанжогло (Скудронжогло) – с помещиком Россияниновым из романа «Иван Выжигин» (1829) Ф. В. Булгарина[548]. «Выжигина» в то время читали все, «Гоголь воспользовался, вероятно, частью сознательно, частью бессознательно этими реминисценциями»[549]. С Миловидиным, еще одним персонажем романа Булгарина, строящим немецкие дома для крестьян, сопоставлялся Кошкарев. Применение человеческих познаний на общее благо, травестированное Гоголем в главе о Кошкареве, было темой и другого романа Булгарина «Правдоподобные небылицы, или Странствования по свету в двадцать девятом веке» (1824), в котором в качестве дисциплин, изучаемых в университете, фигурировали «Добрая Совесть, Бескорыстие, Человеколюбие, Здравый Смысл, Познание самого себя, Смирение, Нравственная польза истории, Применение всех человеческих познаний к общему благу»[550].
Существует также предположение (справедливость которого, впрочем, доказать довольно сложно), что на обрисовку Гоголем земледельческой деятельности Костанжогло (Скудронжогло) и его размышлений о роли земледелия в жизни крестьянина оказали влияние сочинения А. С. Стурдзы, в частности его книга «О влиянии земледельческих занятий на умственное и нравственное состояние народов» (Одесса, 1834). С идеями Стурдзы Гоголь мог познакомиться во время их одесских бесед осенью 1850 года[551], о которых сам Стурдза писал, что они «отразились потом, как в зеркале, в „Выбранных местах из переписки Гоголя с друзьями“»[552]. Наконец, в описании деятельности Костанжогло (Скудронжогло) могли отразиться также и идеи профессора Московского университета по кафедре сельского хозяйства Я. А. Линовского, призывавшего смотреть на сельское хозяйство не как на источник дохода, а как на «святое дело», поскольку помещик в России несет нравственную ответственность за крестьян[553].
Воинствующая галло- и ксенофобия, сказавшаяся во втором томе гоголевской поэмы, также не была чем-то новым в литературе 1810–1840‐х годов. Вспомним в этой связи написанное для членов «Зеленой лампы» утопическое сочинение А. Улыбышева «Сон» (1819–1829), в котором рисовалась Россия, где все чужеземное забыто и торжествует традиция национальная. Национальным пафосом проникнуты также и утопические по своему характеру «Европейские письма» (1819) В. Кюхельбекера, автор которых ратовал за возрождение ценностей, отброшенных или подавленных европейской цивилизацией[554].