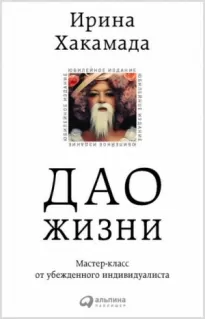Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы

- Автор: Дмитриева Екатерина
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы"
Споры о возможности духовного преображения героев
В предыдущих главах уже неоднократно упоминалось о том, как в одной из первых попыток реконструкции гипотетического продолжения «Мертвых душ» архимандрит Феодор (А. М. Бухарев) предположил, что третий том поэмы должен был строиться как чудесная череда исправлений и воскрешений персонажей, начиная с Чичикова. И что Гоголь якобы подтвердил правильность общего направления этих рассуждений, но определенно заявил лишь о «воскрешении» Чичикова[799].
В последние десятилетия XIX века, когда размышления о втором томе «Мертвых душ» вписывались, как правило, в контекст общих раздумий о месте Гоголя в русской культуре и ее судьбах, интерес литературных критиков и философов к заглавному персонажу поэмы Чичикову особенно возрос.
Как «своего рода» героя практической жизни, умного, твердого, изворотливого, неунывающего, оценил Чичикова в книге «Россия и Европа» (1871) Н. Я. Данилевский. Уязвимость Чичикова, по мысли Данилевского, была не столько его индивидуальным пороком, сколько следствием бедности содержания русской жизни с ее узостью, стесненностью, недостатком простора:
…Улисс своего рода, только, с одной стороны, лишенный всякой идеальности стремлений, – ибо откуда им взяться в жизни, отрешенной от своих начал и, однако же, не усвоившей чужих (так как это последнее невозможно), – с другой же, не могущий направить своей деятельности на что-либо действительно практически полезное <…>. Если характер героя русской трагикомической поэмы не привлекает наши человеческие чувства, как герой испанский, то зато мы лучше понимаем причину извращения его природы общественною средою, тогда как сумасбродство Дон-Кихота представляется лишь случайным результатом его болезненной фантазии, разгоряченной чтением нелепых романов. Сообразно этому, вся обстановка «Мертвых душ» несравненно выше обстановки Дон-Кихота…[800]
Об укрупнении Гоголем масштабов фигуры Чичикова во втором томе заговорит в начале века и Д. С. Мережковский, сравнив его, как и Н. Я. Данилевский, с Дон Кихотом Сервантеса:
Странствующий рыцарь денег, Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон Кихот, подлинным, не только комическим, но и трагическим героем, «богатырем» своего времени. «Назначение ваше – быть великим человеком», – говорит ему Муразов. И это отчасти правда: Чичиков так же, как Хлестаков, все растет, и растет на наших глазах. По мере того, как мы умаляемся, теряем все свои «концы» и «начала», все «вольнодумные химеры», наша благоразумная середина, наша буржуазная «положительность», Чичиков, кажется все более и более великою, даже прямо бесконечною[801].
Еще одной гранью облика Чичикова, усилившейся во втором томе, было, по мысли Мережковского, западничество, ставшее залогом одновременно его успеха и поражения:
Подобно Хлестакову, он (Чичиков. – Е. Д.) чувствует себя в русском провинциальном захолустьи представителем европейского просвещения и прогресса: тут – глубокая связь Чичикова с «петербургским периодом» русской истории, с петровскими преобразованиями. Чичикова тянет на Запад: он как будто предчувствует, что там его сила, – его грядущее «царство»[802].
Впрочем, оговаривался Мережковский, западничество Чичикова было скроено на русский манер:
Русская культура – это повелось еще с Петра – срывает со всемирной только хлестаковские «цветы удовольствия», снимает с нее только лакомую пенку или накипь: плоды высшего западноевропейского просвещения проникают в Россию вместе с прочим «галантерейным товаром», наравне с «голландскими рубашками» и «особым сортом французского мыла, которое сообщает необыкновенную белизну и свежесть» русской дворянской коже. Из всемирной культуры выбирает Чичиков то, что нужно ему, а все прочее, слишком глубокое и высокое, с такою же гениальною легкостью, как Хлестаков, сводит к двум измерениям, облегчает, сокращает, расплющивает до последней степени плоскости и краткости[803].
С этим же было связано и отношение Мережковского к возможности «воскрешения» Чичикова в продолжении поэмы. Воскрешения, считал он, не будет, потому что, вопреки тому, в чем Чичиков пытается уверить Муразова, «не его „обольстил сатана“, и он сам – сатана, который всех обольщает». Обманув
не только чиновников, князя, Хлобуева, но и нас, и даже самого Гоголя, снова выйдет Чичиков из тюрьмы оправданный, как ни в чем не бывало, жалея только фрака, разорванного в припадке отчаяния: «зачем было предаваться так сильно сокрушению?» – и закажет себе новый фрак – из того же самого сукна «наваринского пламени с дымом», и новый будет «точь-в-точь как прежний» – и – «садись мой ямщик, звени мой колокольчик, взвейтесь кони и несите меня!»…[804]
То же мнение о невозможности «просветления» Чичикова в дальнейшем высказал чуть ранее и представитель академической науки Н. А. Котляревский, сохранив, впрочем, возможность воскрешения за другими гоголевскими персонажами:
Если главный герой сохранил во второй части «Мертвых душ» свою порочную и ничтожную душу, то помыслы в сердце людей, его окружавших, значительно просветлели[805].
В. Ф. Переверзев, разделив персонажей второго тома на «небокоптителей» самого различного рода (об этом – ниже)[806], некоторое исключение сделал, кажется, лишь для одного Чичикова, определив его как «самый синтетический характер», обнаруживающий в своей духовной организации сходство с Гоголем[807].
Реабилитация фигуры Чичикова, свойственная целому ряду дореволюционных работ, естественно сменяется в советскую эпоху достаточно жесткой критикой и скепсисом. Одним из главных идеологов советского литературоведения М. Б. Храпченко Чичиков трактуется как «человек, у которого порвались связи с дворянской усадьбой», представитель нового класса приобретателей, историческое место которого Гоголь не смог раскрыть[808].
Поразительно, но ведь и Андрей Белый в своей гоголевской работе 1934 года иронически интерпретирует «хозяина-приобретателя» Чичикова как родоначальника многих тузов «нашей недавней промышленности»:
…дед, ограбивши на дороге, замаливал грех пудовыми свечами; сын его закидывал Азию дешевыми ситцами; внук, выродок, – попадал в министры Временного правительства… <…> Чичиков – будущий Щукин: закидает Персию ситцами, отслюнявив «на Психологический институт» двести тысяч: в этом – «блага» третьего тома «МД»[809].
Во втором томе Чичиков «еще активнее представляет противонародное начало; вокруг него сплачиваются все темные силы, внутренние супостаты, против которых должен ополчиться <…> весь народ», писал другой советский идеолог В. В. Ермилов[810]. Впрочем, надо отдать должное, он же сказал, что Гоголь был первым писателем в русской литературе, создавшим образ буржуазного приобретателя, «первым, кто задумался над исторической неизбежностью этого художественно открытого им социального типа»[811].
В интервью с бельгийской слависткой Клод де Грев, задавшей вопрос, возможно ли вообще было завершение поэмы, Цветан Тодоров заметил: литературе более пристало изображение зла, нежели добра, но при этом в изображении Чичикова Гоголь все же существенно опередил свое время, показав персонажа, который в нынешние времена «непременно стал бы гением маркетинга» и нашел бы «другие фантастические товары для купли и продажи»[812].
О невозможности изобразить по-настоящему хорошего человека писал еще ранее Виктор Эрлих, ссылаясь при этом на опыт Олдоса Хаксли, превратившего, как и Гоголь, задуманную им в романе «О дивный новый мир» (1932) утопию в консервативную идиллию[813]. Вместо того чтобы поднять Чичикова до своего идеала, Гоголь сам опускается до «мишурного прагматизма» своего персонажа. Трагическая ирония гоголевской ситуации 1840‐х годов заключалась, по мысли исследователя, в том, что человечность он пытался найти в одном из самых банальных и презренных представителей рода человеческого[814].
«Посланником сатаны, спешащим домой, в ад» назвал Чичикова В. В. Набоков[815].
Собственно, в западной критике Чичиков трактовался принципиально амбивалентно: то как персонаж не вполне плохой, но и не вполне хороший, откровенно лживый, но своей ложью всех обманывающий[816], то как будущий реформатор русского гражданского общества[817] и даже как секуляризованная версия библейского Иова (в этом случае вспоминалась сцена в тюрьме из заключительной главы)[818].
Нередко его сополагали с другим персонажем из второго тома, в наибольшей степени привлекавшим внимание критики, а именно – с Костанжогло (Скудронжогло). Последнего истолковывали то как русского фурьериста, сравнивая деятельность Костанжогло с фаланстерами Ж.‐Б. Фурье[819], то как «секуляризированного Иоанна Крестителя», создающего греко-римский идеал справедливого социального устройства[820], то как абсолютно идеального, но тем самым и недостоверного персонажа[821], олицетворение не только экономического успеха, но и русской периферии[822] (в этом контексте знаковой становилась нерусская внешность Костанжогло, замеченная уже Андреем Белым). Свой вердикт «Гора породила мышь» вынес по поводу сразу двух персонажей второй части – Костанжогло (Скудронжогло) и Муразова – Виктор Эрлих, обратив внимание на несоответствие «приземленного этоса» (pedestrian ethos) обоих геров и предваряющей их появление возвышенной риторики[823].
В России полемически заостренную оценку Муразову (но одновременно и Чичикову) дал В. И. Шенрок, заметив, что Муразов – «в сущности тот же Павел Иванович, но уже насытившийся и проповедующий»[824]. Понятно, что подобный взгляд уже не предполагал ни воскрешения героев, ни их просветления.
А В. В. Розанов связывал неудачу положительных персонажей второго тома с тем, что Гоголь, «великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу»:
…чудовищные фантасмагории показались в его произведениях, противоестественная Уленька и какой-то грек Констанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность[825].
Особенно досталось от Розанова Улиньке, чей образ слишком хорошо вписался в его более ранние размышления о пристрастии Гоголя к «хорошеньким» покойницам[826]:
…нравственный идеал – Уленька – похожа на покойницу. Бледна, прозрачна, почти не говорит и только плачет. «Точно её вытащили из воды», а она взяла да (для удовольствия Гоголя) и ожила, но самая жизнь проявилась в прелести капающих слез, напоминающих, как каплет вода с утопленницы, вытащенной и поставленной на ноги[827].
Но если в критике высказывался все более критический взгляд на возможность воскрешения гоголевских героев в собственно гоголевской системе координат, то по почти единодушному мнению им суждено было «ожить» в русской прозе: Тентетников (единственный персонаж второго тома, обрисованный «без всякого комизма и карикатуры» и в котором, как в зеркале, отразился «новый Гоголь»[828]) воплотится в Обломове И. А. Гончарова и Неклюдове Л. Н. Толстого. Хлобуев, описание которого восходит к легенде об Илье Муромце, обернется чеховским Гаевым из «Вишневого сада». Костанжогло же оживет в героях не только Толстого, но и Достоевского, в частности – Дмитрии в «Братьях Карамазовых» и Шатове, советующем Ставрогину заняться крестьянским трудом (роман «Бесы»)[829].