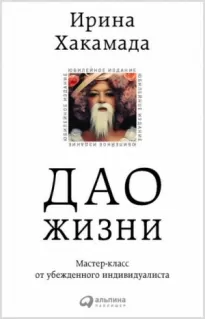Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы

- Автор: Дмитриева Екатерина
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы"
Специфика национальной утопии: проблема жанра
Один из многочисленных парадоксов незаконченного второго и гипотетического третьего тома «Мертвых душ» составляет их жанровая и стилевая эклектичность. Роман «большой дороги», роман путешествия, плутовской роман-пикареска, поэма, бурлескная поэма[756] – все данные жанровые определения первого тома «Мертвых душ», разумеется, приложимы и ко второму тому.
И все же во втором томе, даже если судить о нем по уцелевшим главам, появляется нечто, по версии одних, значительно сужающее, а по версии других – безмерно расширяющее намеченные Гоголем ранее горизонты.
…сочинение становится колоссально величественным, грозным, не поэмой, как он (Гоголь. – Е. Д.) называл, а трагедией национальной, —
писал А. В. Никитенко, узнав о сожжении второго тома и сожалея о понесенной русской культурой потере[757]. И тем самым признавал недостаточным жанровое определение «поэма», само по себе очень широкое.
В дальнейшем второй том (а сквозь его призму и «Мертвые души» в целом) рассматривался и как образец дидактического резонерства (Дружинин, Боткин[758]), и как смесь «верных замечаний и узких, фантастических выдумок» (Чернышевский[759]). Н. А. Добролюбов в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» увидел в нем возвращение к сентиментализму, шаг «назад до Карамзина» («его Муразов есть повторение Фрола Силина, благодетельного крестьянина, его Улинька – бледная копия с бедной Лизы»[760]).
Впоследствии мысль о возвращении Гоголя к сентиментализму подхватит и В. В. Виноградов, увидев во втором томе «следы непрестанной, упорной борьбы между инстинктивным „натуралистическим“ тяготением и сентиментальным притяжением»[761]. И. А. Гончаров писал о том, что Гоголь «захотел, как Александр Македонский, покорить луну (здесь и далее курсив мой. – Е. Д.), то есть не удовольствовался одною, выпавшею ему на долю ролью – разрушителя старого, гнилого здания, захотел быть творцом, создателем нового…»[762]. П. А. Вяземский, прочитав «Записки о жизни Н. В. Гоголя» П. А. Кулиша, не без иронии заметил, что Гоголь «все надеялся на чудо; от того все таинственные предсказания его о том, чем неожиданно кончатся его „Мертвые души“»[763].
Так, пока еще не названное прямо, появляется уже в ранней критике «Мертвых душ» осмысление второго тома в жанровых координатах утопии, понятой как способ реорганизации мира – конструирование некоего воображаемого, образцового социального устройства, места несуществующего и оттого тем более желанного. Правда, в 1860‐е годы наметилась еще одна тенденция жанрового осмысления второго тома, которая по-настоящему даст о себе знать уже в ХX веке: а именно ви´дение в нем в первую очередь психологического романа – жанра, которому первый том «Мертвых душ» был явно чужд.
Л. И. Арнольди, сам когда-то слышавший чтение Гоголем глав второго тома, опубликовал в 1862 году воспоминания, в которых сравнил поэтическую манеру второго тома с первым:
Даже в неотделанных пяти главах <…> мы видим уже, что характеры действующих лиц задуманы глубже <…>. Генерал Бетрищев, Тентетников, Кошкарев и в особенности Хлобуев не имеют уже в себе ничего карикатурного, ничего преувеличенного; это живые люди, со всеми своими дурными и хорошими наклонностями[764].
В дальнейшем эту точку зрения развил В. В. Гиппиус, соединив (пожалуй, первым) мысль о втором томе как психологическом романе с интерпретацией его как утопии, от которой не смогла отвратить Гоголя даже «неудача» «Выбранных мест из переписки с друзьями»: физиологизм первого тома сменяется психологизмом второго, и «вторая часть „Мертвых душ“ превращается в реальный психологический роман, в котором, однако, звучат отголоски „третьей идиллии“ (т<о> е<сть> „Переписки“) в образах Костанжогло, Муразова и генерал-губернатора»[765]. Подобное жанровое ви´дение подкреплялось, разумеется, и упомянутыми выше высказываниями самого Гоголя о продолжении «Мертвых душ» как «дворце, который во мне строится», о не покидающей его до конца жизни надежде «пропеть гимн Красоте Небесной» (письма П. А. Плетневу от 17 марта 1842 г. и В. А. Жуковскому от 2 февраля 1852 г.).
Нельзя не вспомнить, что о сильной преувеличенности данного представления о психологизме позднего Гоголя, о присутствии во втором томе не конкретных характеров, но скорее некоего совокупного русского человека, сформированного в соответствии с классическими представлениями о смертных грехах (алчность, гнев, чревоугодие, лень, уныние), об апелляции к эмблематичности, а не к психологизму одним из первых заговорил А. В. Михайлов:
Плох, совсем плох тот читатель «Мертвых душ», который в героях гоголевской поэмы способен видеть только сиюминутную буквальность их облика внешнего и облика морального; плохими читателями были почти все иллюстраторы «Мертвых душ» – иллюстрировать это произведение занимательно и завлекательно, и резкая, порой гротескная очерченность человеческих образов так и зовет рисовальщика взяться за карандаш и перо, тем не менее иллюстрировать это произведение по-настоящему, во всей целостной совокупности его смысла трудно или совсем невозможно, потому что инструменты художника схватывают прежде всего именно все то броское, что принадлежит фабульной, непосредственной, буквальной реальности, но совсем не способны схватить и передать динамику смысла, пронизывающую любой образ. Образ, и лицо, и облик – это для Гоголя как бы тонкая поверхность, достигший предельной индивидуализации край бытия, целого океана бытия, в котором одновременно – и стихийность вещественного, и духовность с ее высоким смыслом, словно первозданное вещество мира и дух, его творящий, но с ним не сливающийся[766].
Именно такой направленностью взгляда Гоголя исследователь объяснял и кризис позднего Гоголя: невозможность для него «придерживаться двух мер и двух правд», соединить «праздничный и ликующий образ бытия в первом томе поэмы со всеми одолевавшими его сомнениями» и совместить образ переполненного и «сытого» бытия с традиционными ценностями и аскетической духовностью в томе втором[767].
С другой стороны, нелишне вспомнить, что жанр утопии в определенном смысле маркировал все творчество Гоголя, начиная с его ранних произведений, притом что существо и функция утопии при этом существенно менялись. Как народная утопия, «народное Телемское аббатство», «украинский остров Утопия», где «торжествует молодость, красота, нравственное начало», был воспринят уже малороссийский цикл «Вечеров на хуторе близ Диканьки»[768]. Впрочем, отмечено было в этой утопии также и ироническое начало[769], и даже начало дьявольское[770]. Под знаком утопии был прочитан «Тарас Бульба», в то время как «современные» повести «Миргорода» дополнительно высветили утопический характер более ранних украинских повестей Гоголя из цикла «Вечеров…», представив историю падения человека «с пьедестала былого величия» – величия «золотого века»[771].
С «Ревизором» и возлагавшимися на него Гоголем надеждами на преображение жизни словом связывалось то, что получило впоследствии название «эстетической утопии» Гоголя, своеобразное сочетание морализма и эстетизма (как писал В. В. Зеньковский, «смех становится для Гоголя средством борьбы со злом, с неправдой, – и из этого родилась эстетическая утопия Гоголя, как сочетание <…> веры в силу эстетических переживаний и горячей потребности воспользоваться ими для морального воздействия на русских людей»[772]).
Следующим этапом утопизма Гоголя – после краха его эстетической утопии – стали «Выбранные места из переписки с друзьями», в которых Гоголь нарисовал «идиллическую домашнюю, социальную и политическую жизнь морально преображенных людей»[773] и где метафизическая утопия слилась, по сути, с проповедью. Впрочем, неизменной составляющей и здесь оставалось стремление служить «общему благу», одухотворявшее и его прежние утопические построения[774]. Для данного умонастроения весьма «благоприятным» было религиозное понимание жизни – и отсюда замысел Гоголя выступить перед русским обществом с новой программой жизненного творчества[775].
Собственно, именно утопический характер «Выбранных мест из переписки с друзьями», призванных, согласно первоначальному замыслу Гоголя, подготовить читателя к восприятию второго тома его поэмы[776], не столько определил его особый утопический характер (последний сложился, по всей видимости, еще до начала работы над «Выбранными местами»), сколько подсказал читателю ту систему координат, в которой второй том и должен (или мог) восприниматься. Проблема, однако, заключалась в том, что утопическая мысль Гоголя во втором томе оказалась и эклектичнее, и сложнее, и вместе с тем натуралистичнее, чем в «Выбранных местах». И тем самым, как в дальнейшем мы постараемся показать, внесла неожиданно дополнительный смысл в поэму. Это и было, по-видимому, то, что сам Гоголь в 1847 году определил пословицей «Тех же щей, да пожиже влей» (письмо П. А. Вяземскому от февраля 1847 г., Неаполь), пересматривая соотношение «Переписки» с продолжением «Мертвых душ» и желая теперь уже во втором томе воплотить то, что не удалось в «Выбранных местах».
И действительно, текст второго тома обладал всеми свойствами, что позволяли прочитать его, вместе с «Выбранными местами из переписки с друзьями», как социальную, национальную, хозяйственную, религиозную утопию. Утопичен был и сам замысел второго тома, успешное завершение которого ставилось Гоголем в прямую зависимость от помощи Бога и «поддержки» Отечества[777]. Наконец, текст обладал и ярко выраженной интертекстуальной потенцией, и по сей день позволяющей читателю (вариант: критику) соотносить его с конкретными утопическими текстами, на которые Гоголь якобы мог ориентироваться.
Возможная параллель замыслу продолжения «Мертвых душ» как национального утопического эпоса была усмотрена в повестях В. Ф. Одоевского «4338‐й год» и «Город без имени», являвшими собой альтернативу, которая стояла также и перед Гоголем: либо построение царства Просвещения во главе с Россией, либо путь в никуда, исходящий из теории общей пользы. По наблюдению Е. Н. Купреяновой, изображение у обоих писателей неприглядного бытия, приоткрывающего завесу над таящимся в его глубинах возможностями прекрасного, заставляло обоих писателей видеть «в русской нации, еще не успевшей подвергнуться влиянию личного интереса, ресурсы совершенствования человечества»[778].
Возвращение к национальному и отказ от рабского подражания Западу (а ведь и в самом деле, галло- и европофобия буквально пронизывают второй том «Мертвых душ») вообще составляли один из центральных мотивов русских утопий 1820–1840‐х годов. В этой связи можно вспомнить утопическое сочинение А. Д. Улыбышева «Сон» (1819–1829), написанное для членов «Зеленой лампы» по-французски (!), в котором рисуется Россия, где раболепное подражание чужеземному забыто в угоду национальной традиции. Национальным пафосом проникнуты и утопические по своему характеру «Европейские письма (1819) В. К. Кюхельбекера, ратующие за возрождение ценностей, отброшенных или подавленных европейской цивилизацией; здесь возникает миф о процветающей Америке, с которой Россия сравнивает себя и с которой соперничает[779].