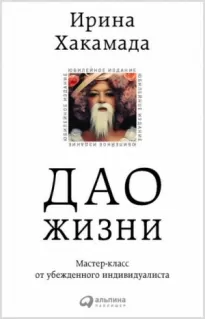Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы

- Автор: Дмитриева Екатерина
- Жанр: Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Второй том «Мертвых душ». Замыслы и домыслы"
Иерусалим: до и после
Сроки поездки в Иерусалим в который раз меняются – признак того, что работа над «Мертвыми душами» «вновь расклеилась»[103]. Теперь Гоголь опять собирается вначале совершить паломничество на Святую Землю, а уже потом приняться за поэму. «Оставим на время всё. Поеду в Иерусалим, помолюсь, и тогда примемся за дело, рассмотрим рукописи и всё обделаем сами лично, а не заочно. А потому до того времени, отобравши все мои листки, отданные кому-либо на рассмотрение, положи их под спуд и держи до моего возвращения. Не хочу ничего ни делать, ни начинать, покуда не совершу моего путешествия и не помолюсь», – извещает он П. А. Плетнева (письмо от 12 (24) августа 1847 г., Остенде).
Но продолжать работу теперь он хочет в России. В ответ на зальцбруннское письмо В. Г. Белинского от 3 (15) июля 1847 года[104] он пишет:
Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь. <…> Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает нынешнее время, в котором так явно проявляется дух построенья полнейшего, нежели когда-либо прежде… (письмо В. Г. Белинскому от 29 июля (10 августа) 1847 г., Остенде).
Более того, С. Т. Аксакову он сообщает, что по возвращении не будет задерживаться в Москве, но отправится в губернии:
Притом, если Бог благословит возврат мой в Россию, я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная покуда загадка, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал. Я вижу только то, что и все другие так же, как и я, не знают России (письмо от 16 (28) августа 1847 г., Остенде).
О том же он пишет и С. П. Шевыреву:
Мне нужно будет очень много посмотреть в России самолично вещей, прежде чем приступить ко второму тому. Теперь уже стыдно будет дать промах (письмо от 20 ноября (2 декабря) 1847 г., Неаполь).
И просит найти для него «биографию хотя двух человек, начиная с 1812 года», тем самым будто бы испрашивая бытовой материал для создания образа генерала Бетрищева[105].
Погодина он словно успокаивает:
…много, много произошло всякого рода вещей, явлений в моем внутреннем мире, и все Божьей милостью обратилось в душевное добро и в предмет созданий точно художественных (письмо от 25 ноября (7 декабря) 1847 г., Неаполь).
Но стоит соположить письма Гоголя этого времени, написанные с разрывом в несколько дней, как становится очевидно, насколько быстро меняется его настроение, а вместе с ним и планы (если это только не характерное для Гоголя запутыванье следов). Накануне отъезда на Святую землю он говорит о своем призвании художника, а не проповедника: «…не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни» (письмо В. А. Жуковскому от 29 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.), Неаполь). И тут же, в какой уже раз, ставит под сомнение возможность завершения «Мертвых душ». А в свое оправдание почти капризно ссылается на нежелание друзей ему помочь:
На замечанье твое, что «Мертвые души» разойдутся вдруг, если явится второй том, и что все его ждут, скажу то, что это совершенная правда; но дело в том, что написать второй <том> совсем не безделица. Если ж иным кажется это дело довольно легким, то, пожалуй, пусть соберутся да и напишут его сами, совокупясь вместе, а я посмотрю, что из этого выйдет. <…> Словом, на все эти ребяческие ожидания и требования 2 тома глядеть нечего. Ведь мне же никто не хотел помочь в этом самом деле, которого ждет! Я не могу ни от кого добиться записок его жизни (письмо С. П. Шевыреву от 20 ноября (2 декабря) 1847 г., Неаполь).
И в то же время художнику Александру Иванову он признаётся, какого напряжения сил и воли стоит ему продолжение работы, истинный адресат и заказчик которой – не суетный человек, но Бог:
Работая свое дело, нужно твердо помнить, для кого его работаешь, имея беспрестанно в виду того, кто заказал нам работу. Работаете вы, например, для земли своей, для вознесенья искусства, необходимого для просвещения человека, но работаете потому только, что так приказал вам тот, кто дал вам все орудия для работы. Стало быть, заказыватель Бог, а не кто другой. А потому его одного следует знать. Помешает ли кто-нибудь – это не моя вина, я этим не должен смущаться, если только действительно другой помешал, а не я сам себе помешал. Мне нет дела до того, кончу ли я свою картину или смерть меня застигнет на самом труде; я должен до последней минуты своей работать, не сделавши никакого упущенья с своей собственной стороны. Если бы моя картина погибла или сгорела пред моими глазами, я должен быть так же покоен, как если бы она существовала, потому что я не зевал, я трудился. Хозяин, заказавший это, видел. Он допустил, что она сгорела. Это его воля. Он лучше меня знает, что и для чего нужно. Только мысля таким образом, мне кажется, можно остаться покойным среди всего. Кто же не может таким образом мыслить, в том, значит, еще много есть тщеславия, самолюбия, желанья временной славы и земных суетных помышлений. И никакими средствами, покровительствами, защищениями не спасет он себя от беспокойства (письмо от 16 (28) декабря 1847 г., Неаполь).
Перед самым отплытием в Иерусалим Гоголь в письме к В. А. Жуковскому от 29 декабря 1847 года (10 января 1848 года) из Неаполя подводит итог предшествующему периоду. Кажется, он вновь хочет писать:
Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. <…> Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы – и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. <…> С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. <…> Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастье суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен преступать. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. <…> хочу заняться крепко «Мерт<выми> душами».
Но, добравшись до Иерусалима, всю надежду он возлагает на свое возвращение в Россию. Н. Н. Шереметьеву он просит:
Молитесь теперь о благополучном моем возвращении в Россию и о деятельном вступленьи на поприще с освеженными и обновленными силами. Летнее время проведу в Малороссии, а в августе месяце, может быть, загляну в Москву (письмо от 17 (29) февраля 1848 г., Иерусалим).
Сравним это письмо с более поздним письмом, и тоже Н. Н. Шереметьевой, но теперь уже из Васильевки:
Мысль о моем давнем труде, о сочинении моем, меня не оставляет. Все мне так же, как и прежде, хочется так произвести его, чтоб оно имело доброе влияние, чтоб образумились многие и обратились бы к тому, что должно быть вечно и незыблемо (от 16 мая 1848 г.).
И все же, оказавшись весной, по возвращении из Иерусалима, в родных местах, Гоголь, вновь пребывает в ожидании. «О себе скажу то<лько, что> еле-еле осматриваюсь. Вижу предметы вокруг меня как бы сквозь какую-то мглу. Многое для меня покуда задача. Боюсь предаться собственным заключеньям, чувствуя, что малейшей торопливостью и опрометчивостью могу наделать больше вреда, чем всякой иной писатель», – пишет он из Васильевки М. П. Погодину 12 мая 1848 года[106].
Приблизительно в тех же словах сообщает о себе и П. А. Плетневу:
Я еще ни за что не принимался. Покуда отдыхаю от дороги. Брался было за перо, но или жар утомляет меня, или я все еще не готов. А между тем чувствую, что, может, еще никогда не был так нужен труд, составляющий предмет давних обдумываний моих и помышлений, как в нынешнее время. Хоть что-нибудь вынести на свет и сохранить от этого всеобщего разрушенья – это уже есть подвиг всякого честного гражданина (письмо от 8 июня 1848 г., Васильевка).
О том же бездействии свидетельствуют и дальнейшие летние письма 1848 года В. А. Жуковскому и П. А. Плетневу:
Еще не принимался сурьезно ни за что и отдыхаю с дороги, но между тем внутренне молюсь и собираю силы на работу. Как ни возмутительны совершающие<ся> вокруг нас события, как ни способны они отнять мир и тишину, необходимые для дела, но тем не менее нужно быть верну главному поприщу; о прочем позаботится Бог (письмо В. А. Жуковскому от 15 июня 1848 г., Полтава).
Я ничего не в силах ни делать, ни мыслить от жару. Не помню еще такого тяжелого времени (письмо П. А. Плетневу от 7 июля 1848 г.).
В последнем, правда, письме в качестве оправдания присутствует ссылка на свирепствовавшую в то время на Украине холеру.
Но действительно ли Гоголь бездействовал летом 1848 года в Васильевке, как об этом писал Н. С. Тихонравов?[107] Или же сам факт чтения им в это время драмы К. С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (М., 1848)[108] заставляет его задуматься о том, что можно как-то иначе, чем это сделал ее автор, представить «высшее свойство» русской жизни и при этом не свести произведение к декларативному доказательству любимой своей мысли?[109]
В середине октября 1848 года Гоголь возвращается в Москву. И опять его письма полны признаниями о бездействии, наполненном, правда, каким-то трепетным ожиданием.
«Я еще не тружусь так, как бы хотел, чувствуется некоторая слабость, еще нет этого благодатного расположенья духа, какое нужно для того, чтобы творить. Но душа кое-что чует, и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного времени», – пишет он А. М. Виельгорской (письмо от 29 октября 1848 г., Москва). И тут же словно противоречит сам себе, говоря, что собирается начать читать ей лекции со второго тома «Мертвых душ», что заставляет предположить, что хотя бы частично он уже написан:
…мне хотелось бы сильно, чтобы наши лекции с вами начались 2‐м томом «Мерт<вых> душ». После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом. Много сторон русской жизни еще доселе не обнаружено ни одним писателем. Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: «Он знает, точно, русского человека. Не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство».