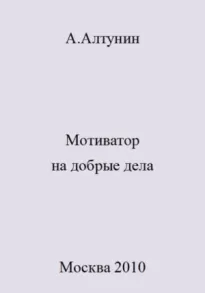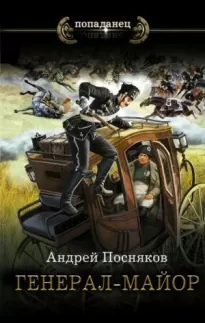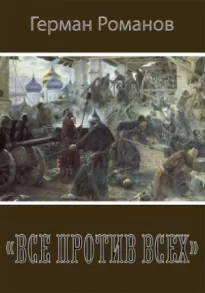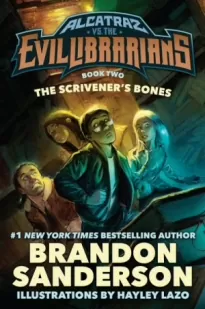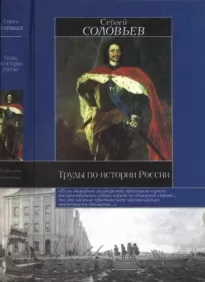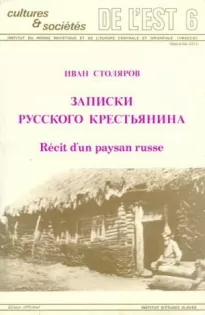Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры
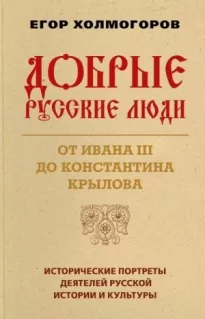
- Автор: Егор Холмогоров
- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры"
Муравьёв и вешатели
В 1863 году, вскоре после освобождения в России крестьян, в эпоху Великих Реформ в Польше начался новый мятеж. Россия казалась слабой целью. Только что поляки видели, что империя потерпела унизительное поражение в войне со всей Европой и верили, что англичане и французы вновь за них вступятся. В реформируемой России во всю развивалось революционное движение, в печати бесновались добролюбовы и чернышевские, из-за границы лил яд иноагент Герцен, живший на деньги Ротшильдов, но не брезговавший и польскими субсидиями. В мае 1862 года в Санкт-Петербурге начались ужасающие пожары, устроенные революционерами: были сожжены «Новая Голландия» и Апраксин двор.
Казалось, что Россию ткни — развалится. Тем более что первоначально на польские выступления царь ответил умиротворительным жестом, прислал в Варшаву наместником своего брата, Константина Николаевича, вождя российских либералов, про которого недоброжелатели шептались, что он сам хочет стать польским королем. Наместник проводил политику уступок, и поляки были уверены, что им всё сойдет с рук.
В ночь с 10 на 11 января 1863 года была произведена атака на казармы русских войск сразу в десяти городах. В резне погибли 30 солдат, 400 были ранены. По всей Польше и Западному краю начали формироваться банды, которые зачастую возглавляли дезертировавшие из русской армии офицерыполяки, как Сигизмунд Сераковский.
Появились «жандармы-вешатели», терроризировавшие русских крестьян, священников и помещиков: не угодил мятежникам — в петлю. Часть этих жандармов составляли… польские ксендзы, не считавшие зазорным марать себя кровью.
«Была одна помещица, графиня Забелло, имевшая мужество и силу воли не покоряться подпольному польскому Жонду. На усадьбу этой несчастной женщины перед рассветом налетели повстанцы, сняли люстру в гостиной и на её место повесили хозяйку дома, — вспоминал один из военных начальников при М. Муравьёве, князь Н. Имеретинский. — Одному пленному армейскому солдату повстанцы распороли кожу на груди, вывернули её на обе стороны, да еще приговаривали: „Вот, ты был армейским, а теперь гвардейцем! Жалуем тебе лацкана!“».
Особенно жестокой была война между поляками и русскими старообрядцами, во множестве жившими в Ковенской губернии. Скажем только в одну ночь бандой ксендза Мацкевича у околицы Ибяны вблизи Каунаса было повешено после истязаний 11 человек старообрядцев.
Польской пропаганде и понадобилось с таким остервенением раскручивать герценовский мем про «МуравьёваВешателя» именно потому, что нужно было отвлечь внимание публики от жандармов-вешателей.
Поляки пользовались общим сочувствием «прогрессивных кругов» в России, призывавших покончить с оккупацией. Пономарь революции А. Герцен в своем «Колоколе» визжал, подстрекая поляков убивать «гадких русских солдат», а офицеров призывал дезертировать, при этом убеждая их, что нет ничего страшного в том, что от России отделится Польша, Украина или Сибирь.
Международное положение так же было тревожным — в Париже требовали интервенции в Россию, чтобы освободить несчастных поляков. Лондонская пресса расписывала «кровавые русские репрессии», когда они ещё даже не начались. Одно время в Санкт-Петербурге показалось, что Варшава уже навсегда потеряна и стоял вопрос только так: удастся ли не отдать полякам Белоруссию и Малороссию?
Именно поэтому в Вильну, столицу Северо-Западного края, а отнюдь не в Варшаву, был назначен генерал-губернатором Михаил Николаевич Муравьёв. Северо-Западный край тогда включал в себя Витебскую, Могилевскую, Минскую, Гродненскую, Виленскую и Ковенскую губернии.
Ради этого назначения Александру II пришлось отчасти переступить через себя. Незадолго до этого он сместил Муравьёва со всех постов из-за расхождения во взглядах на крестьянскую реформу. Однако спасение России было для Государя выше личных антипатий.
М. Муравьёв принял на себя ответственность, но сразу оговорил, что будет действовать по своей системе. Краеугольный камень этой системы состоял в том, что Западный край — русская земля, там живут русские люди. Именно поляки, там оккупанты, которые ещё и посмели стать мятежниками. Подавление мятежа будет проводиться без всякой снисходительности и уступок полякам и будет сопровождаться обрусением края.
Вот как Михаил Николаевич вспоминал свой диалог с императором: «Я с удовольствием готов собою жертвовать для пользы и блага России: но с тем вместе желаю, чтобы мне были даны и все средства к выполнению возлагаемой на меня обязанности… Необходимо, чтобы как в Западных губерниях, так и в Царстве была одна система, — строгое преследование крамолы и мятежа, возвышение достоинства русской национальности и самого духа в войске, которое теперь негодует оттого, что оно, будучи постоянно оскорбляемо поляками, не имело даже права противодействовать их буйству; необходимо дать решительный отпор иностранным державам, которые будут всеми средствами опорочивать предлагаемую мною систему строгого преследования мятежа и польского революционного духа».
В своих воспоминаниях Муравьёв самыми мрачными штрихами характеризует ту ситуацию, которую он застал в смущаемом мятежом крае:
«Все шесть губерний были охвачены пламенем мятежа; правительственной власти нигде уже не существовало; войска наши сосредоточивались только в городах, откуда делались экспедиции, как на Кавказе в горы; все же деревни, села и леса были в руках мятежников. Русских людей почти нигде не было, ибо все гражданские должности были заняты поляками. Везде кипел мятеж и ненависть и презрение к нам, к русской власти и правительству; над распоряжениями генерал-губернатора смеялись, и никто их не исполнял. У мятежников были везде, даже в самой Вильне, революционные начальники; в губернских городах целые полные гражданские управления, министры, военные революционные трибуналы, полиция и жандармы, словом, целая организация, которая беспрепятственно, но везде действовала, собирала шайки, образовывала в некоторых местах даже регулярное войско, вооружала, продовольствовала, собирала подати на мятеж, и всё это делалось гласно для всего польского населения и оставалось тайною только для одного нашего правительства. Надо было со всем этим бороться, а с тем вместе и уничтожать вооруженный мятеж, который более всего занимал правительство. Генерал-губернатор ничего этого не видал; русские власти чувствовали только свое бессилие и вообще презрение к ним поляков, ознаменовавшееся всевозможными дерзостями и неуважением даже к самому войску, которому приказано было все терпеть и переносить с самоотвержением; так все это переносили русские, и даже само семейство генерал-губернатора было почти оплевано поляками.
Даже русские старожилы в том крае считали дело потерянным и убеждены были, что мы будем вынуждены уступить требованиям поляков, желавших присоединения к независимой Польше наших западных губерний. Никто не верил, что правительство решится на какие-либо меры, не согласные с намерениями западных держав, и что оно признает законность польских притязаний о восстановлении Польши в её прежних пределах. Мне надо было на первых порах рассеять польскую дурь и возродить в русских и в войске уверенность в непоколебимости предпринимаемых правительством мер. Словом, надобно было восстановить правительственную власть и доверие к оной — без этого ничего нельзя было делать».
Предыдущий губернатор В. Назимов никак не мог справиться с мятежниками. Русские солдаты разбивали их в полевых сражениях — войска поляков вообще были слабыми и партизанскими. Но он не мог вырвать сам корень мятежа: чиновники-поляки подчинялись указаниям не СанктПетербурга, а «леса», край терроризировали жандармывешатели, наущаемые польскими католическими прелатами.
Вот как описывает систему М. Муравьёва Лев Тихомиров: «Назимов писал в Петербург, что всю силу края составляют ксендзы, а потому с ними необходимо поладить. Муравьёв внимательно прочитал бумагу Назимова, задумался и сказал: — Да, это очень важно… Непременно повешу ксендза, как только приеду в Вильну… Польское духовенство не только стояло во главе мятежа, не только поджигало народ и устраивало в монастырях склады оружия (иногда отравленного), но ксендзы, как Мацкевич, были начальниками банд и даже лично состояли „жандармами-вешателями“ и лично совершали убийства (ксендзы Плешинский, Тарейво, Пахельский и т. д.)».
Приехав в мае 1863 года в Вильно Муравьёв действительно распорядился первым делом публично расстрелять двух подстрекавших к мятежу ксендзов, причём не дожидаясь снятия с них сана. Был выслан в Вятку католический епископ Вильны Адам Красинский.
Последовала и казнь графа Леона Плятера — вместе с бандой своих слуг он захватил армейский обоз с оружием на территории Динабургского уезда, это современный Даугавпилс. Банда Плятера была разгромлена крестьянамистарообрядцами, мятежник был захвачен. Однако петербургские покровители поляков попытались выручить Плятера: разгромивших его русских крестьян начали выставлять мятежниками и бунтовщиками; за ясновельможного пана графа начали шуршать в салонах Санкт-Петербурга, но Муравьёв распорядился его казнить.
Казнен был и ещё один представитель петербургского высшего света — дезертир Сигизмунд Сераковский, возглавивший одну из банд. И снова интриги в Санкт-Петербурге не помогли. На М. Муравьёва не подействовали ни письмо министра внутренних дел П. Валуева, ни обращение от английской королевы. Ходили слухи, что в день казни Сераковского к Михаилу Николаевичу пришло даже высочайшее повеление его освободить, но Муравьёв демонстративно распечатал его только тогда, когда мятежник был уже повешен.
Сераковский был до последнего уверен в том, что покровители в столице не дадут его в обиду, издевался над «комедией приговора и помилования», и только когда осознал, что всё серьёзно, запаниковал, начал браниться, ударил палача, в общем, вел себя крайне недостойно. «По совершении казни над Сераковским многие поляки присмирели», — отмечал в своих воспоминаниях барон Андрей Дельвиг.
А в январе 1864 года был вытащен из своего глубокого подполья Викентий (Кастусь) Калиновский, польский дворянин, бывший, в отличие от самодовольных дворянчиков Сераковских, настоящим революционером. Это был своего рода протобольшевик — полная ненависти социальная демагогия и, при этом, абсолютная безжалостность и террористические методы в отношении якобы освобождаемого народа.
Сегодня Калиновского стремятся объявить народным героем Белоруссии. Однако в своих агитационных газетах и листках он писал совсем другое: «Мы поляки из веков вечных»; «кто хочет неволи московской — тому дадим виселицу на суку». Вступавшие в его банды клялись на верность «нашей родной Польше». Банды этого «польского Че Гевары» отличались исключительной жестокостью в отношении крестьян и с особым удовольствием расправлялись со священниками.
В конечном счёте, даже поляки вынуждены были открещиваться от Калиновского и его жестокостей, а сам он ушел в глубокое подполье. Но, всё-таки, русские сыщики сумели его оттуда выковырять, а Муравьёв распорядился (вместо романтичного расстрела) повесить.