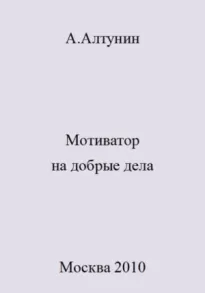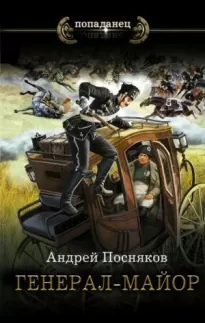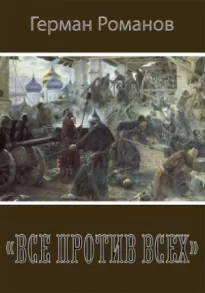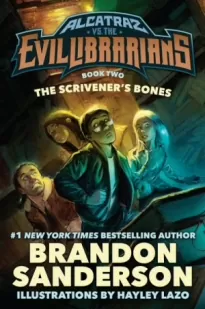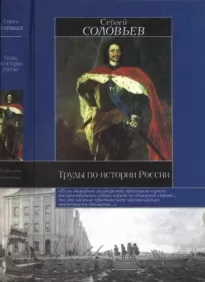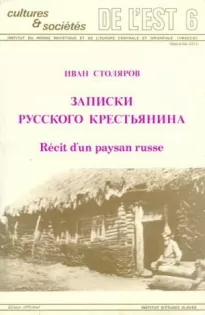Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры
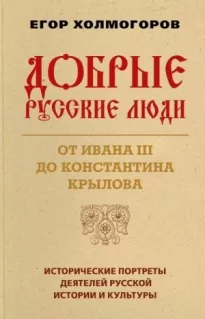
- Автор: Егор Холмогоров
- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры"
Акмеизм: поэзия столыпинской реакции
Вернувшийся из Парижа в Санкт-Петербург, разорвавший с оккультизмом и декадентством, Николай Гумилёв ясно осознает свое призвание — развернуть русскую поэзию от туманной революционной иррациональности символизма к четкости, трезвости, вещности, к приятию жизни и мира, что на политическом уровне приведет и к приятию России как она есть. На смену прикидывающейся Прекрасной Дамой кровавой «незнакомке» — революции — должна прийти любимая и родная своя Россия, как часть реального и живого мира, в котором есть яростное кипение жизни, есть экзотика (как в обожаемой им Африке), есть место и человеку, с его земной любовью и есть место Богу, важнейшее из всех. С такой программой Гумилёв вступает в дискуссию с символистами.
Вместе с единомышленником, художественным критиком Сергеем Маковским, он основывает журнал «Аполлон». В этом названии заключалась целая программа. Фридрих Ницше создал миф о борьбе в древнегреческой культуре двух начал — тёмного, иррационального, буйного начала, связанного с вакханалиями бога Диониса, и светлого, рационального, связанного с четкостью и красотой форм бога Аполлона. Символисты во главе со своим духовным лидером Вячеславом Ивановым проповедовали дионисийство.
Вот как рассуждал дионисиец Вячеслав Иванов: «Все формы разрушены, грани сняты, зыблются и исчезают лики, нет личности. Белая кипень одна покрывает жадное рушенье вод. В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола… область двуполого, мужеженского Диониса. Эта область поистине берег „по ту сторону добра и зла“».
«Иванов, — замечал Гумилев, — как и все символисты, верит в того бога, в которого он сам хочет верить, А я просто поверил в Бога, вот и всё».
В стихотворении «Потомки Каина» Гумилёв вскрывает саму сущность символистского демонизма.
Он не солгал нам, дух печально-строгий,
Принявший имя утренней звезды,
Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды,
Вкусите плод и будете, как боги».
Для юношей открылись все дороги,
Для старцев — все запретные труды,
Для девушек — янтарные плоды
И белые, как снег, единороги.
Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что Кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древнего соблазна,
Когда случайно чья-нибудь рука
Две жердочки, две травки, два древка
Соединит на миг крестообразно?
Символизм, как уже было сказано ранее, — это поэзия интеллигентской тоски по революции, в результате которой «всё будет иначе». Разумеется, недопустимо сводить поэзию только к политике, но именно в русской поэзии предреволюционных десятилетий политический компонент был чрезвычайно велик: от прямых революционных агиток — «Наш царь Цусима» К. Бальмонта, до изделий более тонких, вроде «Девушка пела в церковном хоре» А. Блока, выражавшего, по сути, ту же мысль, что и Бальмонт, но с куда бóльшим изяществом. Был разработан целый эзопов язык, который искусно применяли и в публицистике, и в прозе, и в поэзии, чтобы, избегая репрессий, пропагандировать революцию.
И значительная часть поэтического языка символистов была политическим языком.
Иногда политический характер образности символистов они вскрывали сами, с предельной откровенностью, — например Валерий Брюсов, которого как поэта, кстати, Гумилёв считал своим учителем, но совершенно не разделял его убеждений. В написанном в 1911 году стихотворении «К моей стране» Брюсов сперва описывает «недвижимый, на смерть похожий черный сон», то есть стабильную жизнь страны при самодержавии. Потом её пробуждает «гул Цусимы» и страна «вспомнила восторг победы». Поскольку никаких внешних побед в этот период Россия не одержала, то ясно, что речь идет о смуте 1905 года — убийствах сановников и полицейских, поджогах дворянских усадеб, мятежах на броненосцах и вырванном всем этим конституционном манифесте, в котором интеллигенция и видела свою главную победу. Затем будущий член ВКП(б) печалится о том, что «ветры вновь оледенили разбег апрельских бурных рек», то есть революция была подавлена и наступила так называемая «столыпинская реакция». Но он надеется, что наступит май и снова всё хлынет (и Брюсов в этом смысле не ошибся — хлынуло, и он ещё успел написать оды Ленину).
Но первоначально и в самом деле казалось, что революция подавлена навсегда, а главное — её мерзости и кровь оттолкнули от неё наиболее разумную часть интеллигенции. В 1909 году вышел сборник «Вехи», ведущую роль в котором играли бывшие марксисты Петр Струве, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, а также философ Семен Франк и литературовед Михаил Гершензон. Авторы призывали интеллигенцию одуматься и перестать поджигать пламя революции, в которой она же первая и сгорит, вместе с культурой. Интеллигентов призывали заняться положительным делом: строить культуру, а не бороться с государством. Интеллигенции пора преодолеть свое состояние «полупросвещения» и усвоить весь багаж мировой культуры, а не несколько революционных кричалок.
Выход журнала «Аполлон» и появление акмеизма совпали с этим «веховским» поворотом в сознании русской интеллигенции. Журнал тоже призывал знакомиться со всей мировой культурой, а не только с кричалками, а акмеизм призывал обратиться к реальному миру, а не к революционным фантазиям. Хотя у нас нет никаких свидетельств о знакомстве Гумилёва с «Вехами», но эта тема попросту не могла пройти мимо него. «Вехи» при нём обсуждали и он наверняка их обсуждал. Другое дело, что для убежденного монархиста и консерватора Гумилёва разочарованные недавние революционеры были недостаточно радикальны в своём разрыве с революционными традициями интеллигенции. В идейном смысле созданный Гумилёвым акмеизм был «веховской» поэзией.
Очень важный для Гумилёва тезис — обращенность акмеизма к тому, что уже сбылось и состоялось, вместо того, чтобы разжигать себя грезами и фантазиями о несбыточном и иных мирах. Имеет значение не несбыточное, а сбывшееся. Духовная реальность — ангелы и Бог — это то, что стоит за вещами и выше вещей, а не туманные иные миры. Гумилёв вполне мог бы, полемизируя с символистами, перефразировать Столыпина: «вам нужны великие потрясения, нам нужна великая реальность».
Новое направление, которое охватило и живопись, и архитектуру, а в поэзии приобрело имя акмеизма, выбрало аполлоновский путь — путь света, ясности, четкости форм, путь разума и приятия мира. Там, где у символистов всё прах и тлен, у Гумилёва и других акмеистов — цветение жизни:
И, всегда желая иного,
На голодный жаркий песок
Проливает снова и снова
И зеленый и красный сок.
С сотворенья мира стократы,
Умирая, менялся прах,
Этот камень рычал когда-то,
Этот плющ парил в облаках.
Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой,
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.
Беседуя с первым примкнувшим к его направлению Сергеем Городецким, Гумилев подчеркивал: «Нужно отстаивать в России мужественно твердый и ясный взгляд на мир».
Акмеисты развивали своеобразную теорию поэтического адамизма: на мир нужно смотреть глазами Адама, увидевшего его красоту впервые в райском саду и нарекшего всем растениям и животным их имена. Литературовед Константин Мочульский так резюмировал поэтическую позицию акмеизма: «Символизм считал мир своим представлением, а потому Бога иметь не был обязан». Акмеизм поверил, и всё отношение к миру сразу изменилось. Есть Бог, значит, есть и «иерархия в мире явлений», есть «самоценность» каждой вещи. Этика превращается в эстетику и все: словарь, образы, синтаксис отражают эту радость обретения мира — не символа, а живой реальности. Всё получает смысл и ценность: все явления находят свое место: всё весомо, всё плотно. Равновесие сил в мире — устойчивость образов в стихах. В поэзии водворяются законы композиции, потому что мир построен. Дерзания мифотворцев и богоборцев сменяются целомудрием верующего зодчего: «Бог показывается из своего творения, поэт дает самого себя».
Наряду с журналами «Аполлон» и «Гиперборей» Гумилёв создает «Цех поэтов» — почти формальную организацию, подражающую средневековым цехам, в котором учили писать стихи и поддерживали молодых поэтов. Огромное число тех, кто составил славу русской поэзии, прошли через школу Гумилева.
В акмеистском лагере собрались самые разные авторы. И Ахматова, с её тонкими эротическими переживаниями. И сын торговцев кожей из черты оседлости Мандельштам, с его любованием высотами мировой культуры. И славянофил Городецкий, любитель сказов и былин, введший в поэзию Николая Клюева и Сергея Есенина. И запредельно скандальный эстет Михаил Кузмин. И угловатый резкий Георгий Иванов. Но всех их объединяла любовь к жизни в её конкретности и сложности.
«Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом, — писал Гумилев в одной из полемических статей. — Непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать… все попытки в этом направлении — нецеломудренны. Вся красота, всё священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе. Бедность воображения обнаружит тот, кто эволюцию личности будет представлять себе всегда в условиях времени и пространства. Как можем мы вспоминать наши прежние существования (если это не явно литературный прием), когда мы были в бездне, где мириады иных возможностей бытия, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они существуют? Ведь каждая из них отрицается нашим бытием и в свою очередь отрицает его. Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания, — вот то, что нам дает неведомое… Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нём более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма».
Сбывшееся, реализовавшееся в истории, тем самым отрицает всё несбывшееся. Исторический факт не дает раствориться тому, что есть, в тумане бесконечных возможностей. Если символизм, декадентство, а вслед за ними и современный постмодернизм заявляют: «Это есть то, а ещё то, а ещё и вот то», то акмеисты с их реалистическим консерватизмом подчеркивали: «Это есть это, то есть то, и вместе им не сойтись». Это была не любовь к несбыточному, а любовь к сбывшемуся.
Поэзия символистов, как уже подчеркивалось ранее, была пронизана мироотрицанием, через которое просвечивало, прежде всего, революционное отрицание исторической России и стремление её уничтожить. Акмеизм, если использовать политологические ярлыки, был «поэзией столыпинской реакции». То есть того мощного духовного, культурного и экономического подъёма, который испытала Россия, когда преодолела революционную смуту, как тогда надеялись, — навсегда. Расцветала экономика, появилась уверенность в завтрашнем дне, люди начали ценить русскую жизнь и историю как они есть. «И мечтаю я, чтоб сказали / О России, стране равнин: / — Вот страна прекраснейших женщин / И отважнейших мужчин».
Центральная идея акмеизма — это идея конкретной вещи, которая прекрасна, самоценна и входит в иерархию других богосотворенных вещей, обращенную к ортодоксально понимаемому Богу. Это идея была обращена к людям, принявшим историческую Россию, отвергшим революционность, сделавшим ставку на самостоятельность и самоценность индивида. И здесь, при всей рискованности таких сопоставлений, трудно не увидеть некоторое созвучие с идеальным «столыпинским крестьянином-единоличником».