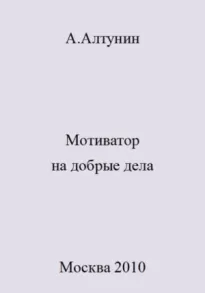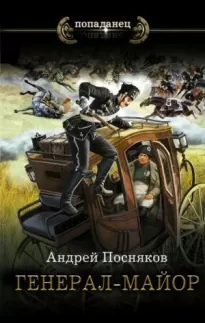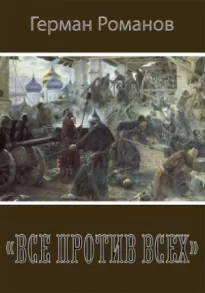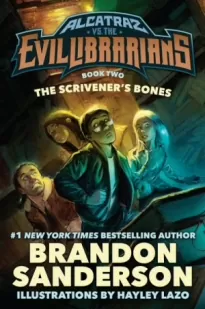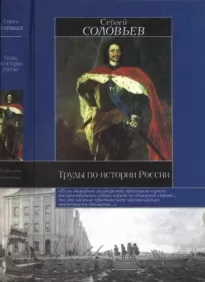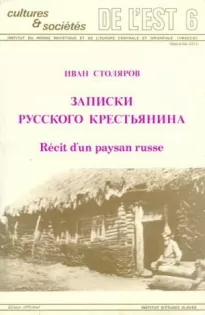Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры
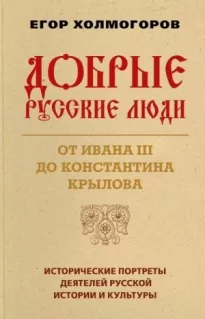
- Автор: Егор Холмогоров
- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Добрые русские люди. От Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры"
Государство или революция? Катков против Герцена
Лишь в 1856 году, с началом «оттепели» Александра II, Михаил Катков получает разрешение восстановить старый «Сын отечества» под названием «Русский вестник».
Журнал быстро становится центром «партии реформ», в которой одновременно состояли и западники, и славянофилы. Однако вскоре отделяются славянофилы с «Русской беседой», Катков спорит с ними по вопросу об общине, которую считает пережитком и фискальной выдумкой («Русский Вестник» в это время предвосхищает идеи столыпинских реформ). Катков в это время выступает как либеральный консерватор и убежденный англофил, сторонник просвещенного либерализма с опорой на жизненные силы нации. Он выступает за расширение местного самоуправления, доверие между властью и народом, реформы, ведущие к улучшению общества. Чтобы иметь большие возможности влиять на политику, Катков наряду с «толстым журналом» приобретает ежедневную газету — ею становятся родные ему по прежнему редакторству «Московские ведомости».
Катков выступает глашатаем западнического либерализма на «англоманский» манер. Однако вскоре выясняется, что главные полемические силы надо расходовать не на переубеждение неготовой к реформам косной бюрократии (она стараниями царского брата Константина Николаевича едва ли не поголовно была либерализована), и не на обмен критическими стрелами с друзьями-врагами славянофилами, а на последовательное противостояние мутной волне нигилизма, поднимаемой всё более сдвигавшимся влево А. Герценом с его заграничным «Колоколом», Н. Добролюбовым и Н. Чернышевским в «Современнике», Д. Писаревым и Г. Благосветловым в «Русском слове»…
Главным врагом Каткова становится «Современник» и группирующиеся вокруг Добролюбова и Чернышевского начинающие «нигилисты». Не имея возможности нападать на власти прямо, нигилисты выбирают своей целью «Русский вестник», который атакуют в совершенно «падонкоффской» как бы мы сейчас сказали манере, используя, прежде всего, сатирическое приложение к «Современнику» — «Свисток». Сперва свистунов пытается осадить даже А. Герцен, но вскоре «Колокол» начинает звать к революции и топору, присоединяясь к нападкам нигилистов на М. Каткова — английские покровители первого русского диссидента дали сигнал «фас».
Вместо продуманных модернизирующих страну реформ начинает маячить призрак подначиваемой из-за границы революции. Призрак тем более грозный, что император и высшая бюрократия за прошедшие несколько лет сами приучили чиновников Империи всех рангов считать герценовский «Колокол» изданием в котором написано то, что царская власть скажет завтра. А герценовский тон становится всё более развязным и подстрекательским, на фоне возникавших один за другим пожаров, создававших ощущение, что Российская Империя уже на пороге революции и анархии.
И тогда Катков решается нанести «Искандеру» (псевдоним А. Герцена) публичную политическую пощечину.
«Недавно случилось нам упомянуть о русских агитаторах, проживающих комфортабельно за морями: разве то, что они делают, не те же поджоги? Или так они невинны, что не понимают, к чему клонятся их манифесты? Или они думают, что возбуждать стихийные страсти, которые так же мало разбирают свои жертвы, как и пожары, которые так же сопровождаются всеобщими бедствиями, падающими на бедных и богатых, на честных и бесчестных или ещё более на первых, — не значит поджигать, особенно когда проповедники живут весело в сторонке и ещё менее обыкновенных поджигателей рискуют своею особой. Разве это не одно и то же? Разве это ещё не хуже? Разве нельзя ожидать всего от людей, которые действуют таким образом?
Наши заграничные réfugiés[19] (мы хорошо знаем, что это за люди) находят, что Европа отжила свое время, что революции не удаются в ней, что в ней есть много всякого хлама, препятствующего прогрессу, как например: наука, цивилизация, свобода, права собственности и личности, и вот они возымели благую мысль избрать театром для своих экспериментов Россию, где, по их мнению, этих препятствий нет или где они недостаточно сильны, чтобы оказать успешный отпор. Они пишут и доказывают, что Россия — обетованная страна коммунизма, что она позволит делать с собою что угодно, что она стерпит всё, что оказалось нестерпимым для всех человеческих цивилизаций. Они уверены, что на неё можно излить полный фиал всех безумств и всех глупостей, всей мертвечины и всех отседов, которые скоплялись в разных местах и отовсюду выброшены, что для такой операции время теперь благоприятно, и что не надобно только затрудняться в выборе средств. Все эти прелести с разными гримасами появлялись в русских заграничных листах, все воспроизводятся и развиваются в подметных прокламациях, которые появляются в самой России и которые были бы невозможны нигде, кроме России…
Превратится в смешное воспоминание тот чудовищный поразительный факт, оскорбляющий теперь до последней глубины наше народное чувство, тот факт, что несколько господ, которым нечего делать, несколько человек, неспособных контролировать свои собственные мысли, считают себя вправе распоряжаться судьбами народа с тысячелетнею историей (бедный тысячелетний народ, за что суждено тебе такое унижение?), предписывая законы его не учащейся молодёжи и его недоученным передовым людям. В далекой перспективе воспоминания станет также смешон, а не отвратителен этот осторожный и благоговейный тон, с которым говорят у нас о вышеупомянутых законодателях даже те из нашей пишущей братии, которые в душе или исподтишка осмеливаются роптать и негодовать на них».
Пощечина получилась на удивление звонкой. А. Герцен воспринял слова «мы хорошо знаем, что это за люди» как намёк на его позорную связь с женой Н. Огарева и разразился истеричной ответной статьей: «Вы, вероятно, не станете отрекаться, — писал Герцен, — что под словом заграничные réfugiés вы разумели нас, издателей „Колокола“, и потому позвольте вас спросить: Какие же мы люди, г. Катков? Какие же мы люди, г. Леонтьев? Вы ведь хорошо знаете, какие мы люди, — ну какие же? Если в вас обоих есть одна малейшая искра чести, вы не можете не отвечать; не отвечая, вы меня приведете в горестное положение сказать, что вы сделали подлый намек, имея в виду очернить нас в глазах вашей публики. Говорите всё… в нашей жизни, как в жизни каждого человека, жившего не только в латинском синтаксисе и немецком учебнике, но в толóке действительной жизни, есть ошибки, промахи, увлеченья, но нет поступка, который бы заставил нас покраснеть перед кем бы то ни было, который бы хотели мы скрыть от кого бы то ни было».
Недавний диктатор прогрессивной мысли предстал после ядовитых насмешек М. Каткова в образе обиженной истеричной барышни. Перед А. Герценом впервые не трепетали. Над ним смеялись. Довершал порку Катков уже серьёзным тоном, вскрыв нравственное убожество Герцена как подстрекателя революции.
«„Ну, какие же мы люди?“ — спрашивает он. Какие же вы люди? Да не совсем вы люди честные!
Пусть он подумает, какая дрянь должен быть тот человек, в котором при полном отсутствии всякого внешнего контроля, всякого принудительного ограничения не оказывается чувства самоответственности, побуждающей человека отдавать себе полный и строгий отчет в каждом слове и деле. Он величаво отвертывается от мелких людишек, которые продают за деньги свои услуги и Богу, и дьяволу. Он ударит себя по карману и скажет с гордостью: „А я вот за деньги не продам своей совести!“ Но нечестные побуждения бывают всякого рода: не в одних деньгах сила, кресты и перстни те же деньги. Он также величаво отвертывается и от тех, которые кривят душой из угодливости, из тщеславного искания почестей и продают себя за чины и за власть. Он истощает свое острословие на генеральские чины и мундиры…
Но пусть он осмотрится в том особом мире, среди которого он живет и действует: там есть свои мундиры и генералы. Пусть он подумает, как он живет в этой республике разно-племенных выходцев и политических агитаторов всех сортов. Сначала он ухаживал за великими этого особого мира, добиваясь их интимности, собирал их записочки и предавал их тиснению, хотя в этих записочках часто ничего другого не значилось, кроме „здравствуйте“ и „прощайте“ или приглашения на чашку чаю. Ухаживая за великими, он, наконец, и сам захотел сделаться великим. Мадзини — представитель Италии; ему надобно сделаться представителем России.
И вот тайная пружина его деятельности; вот на что употребил он свою свободу и представившиеся ему средства действия. Вот чем он дурманил себя, вот за что он продал свою совесть…
Все эти выходцы имеют какое-нибудь политическое значение; каждый опирается хоть на что-нибудь положительное, каждый примыкает хоть к чему-нибудь определенному в своем народе, каждый знает, чего он хочет. Чего же захотел и на что опирается наш фразеолог? Ему захотелось что-нибудь значить между этими знаменитостями и стать генералом от революции.
Родина его не разделена и не находится под иноземным политическим игом; тяжкая и трудная история создала её великим цельным организмом; русский народ, один из всех славянских, достиг политического могущества и стал великой державой; благодаря ему славянское племя не исчезло из истории как чудское и латышское; но эту судьбу купил он ценой великих усилий и пожертвований. Государственное единство есть благо, которым русский народ дорожит и должен дорожить, если не хочет обратить в ничто дело тяжкого тысячелетия и исчезнуть с лица земли. Это основа его национального бытия, купленная дорогой ценой, и он должен крепко держаться её, и он крепко её держится. Но настала пора, когда задержанные и подавленные прежним развитием силы должны вступить в действие; настала пора внутренних преобразований, которые должны воскресить эти силы…
В чем же состоит задача честного писателя, сколько-нибудь мыслящего и действительно любящего свою родину? Брожению ли этому способствовать или созидательному делу? Запутывать ли дело всякой негодной примесью, капризами и фантазиями и вызывать губительные реакции, или разъяснять и упрощать его, и сосредоточивать общественное внимание на элементах существенных и бесспорных? <…>
Может ли он, положа руку на сердце, сказать, что он так действовал? Он не действовал, он юлил и вертелся, ломался и жеманничал, бросался под ноги всякому делу; он умел только смущать, запутывать, вызывать реакцию. Перед каждым практическим вопросом он раскрывал бездну своего пустого и бессмысленного радикализма и только пугал, раздражал и сбивал с толку. Результаты его деятельности на виду: было ли сказано в его писаниях хоть одно живое слово по тем реформам, которые у нас совершались, по тем вопросам, которые у нас возникали?
Что путного было сказано, например, по поводу крестьянского дела, самого капитального и самого трудного? Ничего, кроме тупоумных разглагольствований г. Огарева и сценических вскрикиваний г. Герцена. Они то ругались холопски, то с приторной аффектацией, более оскорбительной, чем их грубости, выражали свое сочувствие: „Ты победил, Галилеянин!“ — кричал наш Мадзини, стоя на одной ноге, как балетмейстер. Было ли хоть что-нибудь разъяснено, было ли хоть в одном слове видно желание сказать что-нибудь серьёзно обдуманное? Было ли сказано хоть одно слово, в котором мог бы узнать себя какой-нибудь положительный интерес, важный для страны, дорогой для народа, — не для сочиняемого в фантазии, а для настоящего, живого русского народа? На что опирались издатели „Колокола“? Что имел за собой наш генерал от революции?